Бродский глазами современников - [115]
Для меня, однако, те же самые составлявшие ядро программ книги были достоянием касты, людей, являвшихся хозяевами, управлявших нашим обществом. Границы авторитарности в этих двух обществах так значительно разнятся, что сравнивать их трудно. Но для меня ощущение возможности использования разрешенной литературы, возможности быть книжным, думать при помощи определенных текстов, общаться с другими людьми посредством литературных аллюзий — все это удушающе и академично. Долгое время я испытывал побуждение работать совершенно антилитературным способом.
Подобным же образом Бродский, несомненно, испытывает, насколько я могу судить о поэзии по переводам, огромное пристрастие к дискурсивной поэзии, к совершенно открытой игре идей и образного языка. Это никогда не могло быть моим путем, поскольку я бы просто отнес себя к совершенно добродушному литературному истэблишменту, никогда не боровшемуся ни за какую свободу, заведомо ею обладая. Какую-то свою свободу я приобрел уходя из этого, утверждая, что я скорее пианист, нежели писатель, и занимаясь писанием таким образом, который не подвергает опасности быть захваченным культурой в качестве любимого сынка.
Мне кажется, что у вас с Бродским есть еще нечто общее. Вы, по определению Дональда Дэви, поэт города[399]. Бродский обладает особым даром портретирования городов: возьмите такие его стихи, как "Темза в Челси" [Ч:46-48/II:350-52], "Декабрь во Флоренции" [Ч:111-13/II:383-85] или "В окрестностях Александрии" [У:138-39/III:57-58], о Вашингтоне. Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали любое из этих стихотворений.
Моя первоначальная реакция на лондонские и флорентийские стихи была экстратекстуальной: никто не должен потворствовать претенциозности исторических столиц и городов-государств, награждая их поэтическими декорациями, пусть и блистательными. Если поэт, делающий это, является всего лишь культурным туристом, работа будет иметь затхлый запах. Но во всех этих стихах очевидно, что Бродский — подлинный чужестранец, имеющий право — в сущности у него нет иного выбора — перенести себя из города своего рождения в эти особенно "священные" места и оценить их как части более глубокого путешествия. Отсюда его неизменное присутствие. Ты сознаешь, что он смотрит из-под прищуренных век на разворачивающиеся перед ним виды; ты сознаешь также, что одновременно он рисует собственные картины этого, вычерчивая их на карте в сравнениях и метафорах, иногда вопиющих. Характерно, что он идет на монументальные самоуподобления мест, в особенности Вашингтона, но не испытывает благоговейного страха. Точно так же, отправляясь во Флоренцию, он вызывает дух Данте и обладает достаточной силой, чтобы справиться с этим. Немногие на такое способны.
То место во второй из замечательной пары строф — четвертой и пятой — "Темзы в Челси", где он, не обращая внимания на характерную скуку Лондона, ныряет в собственную неизбежность, я нахожу наиболее общей основой всего, что Бродский пишет о городах. Я не могу себе представить, чтобы он когда-либо испытывал потребность написать о городе, подобном моему: широкий, поспешный, немилосердный рост без каких-либо свойств метрополии, но с поверхностными притязаниями на имперскую историю — и тем не менее обладающем достаточной силой, чтобы потрясти поэтическое сознание. Хотел бы я увидеть, как он с этим справится.
Согласно Чеславу Милошу, Бродский "в экспериментах с поэтическими жанрами — одой, лирическим стихотворением, элегией, поэмой — напоминает Одена"[400]. Поскольку жанры лучше, чем что-либо, сохраняются в переводе, видите ли вы какое-нибудь родство между Бродским и Оденом в этом или любых других отношениях?
Вижу совершенно отчетливо. Это необычнее всего, поскольку означает, что добрая часть того, чем Бродский занимается по-русски, или по-английски, или по-русски в переводах на английский, выполненных как им самим, так и другими, представляет из себя нечто необщепринятое сегодня в английской поэзии. В значительной степени это жанр, или набор жанров, который, предполагаю, разработал Оден где-то между серединой 30-х и концом 50-х, когда он развивал свой стиль (как бы это сформулировать?) культурной дискурсивности, работая в том или ином неоклассическом варианте. Я не знаю, сколь далеко этот стиль письма вообще может отстоять от чрезвычайно сильной личности самого Одена. Я был озадачен количеством совпадений в открытии Бродским Одена, как своего пути в английскую поэзию.
Как вы знаете, Бродский написал два эссе об Одене. Почему, на ваш взгляд, он выбрал Одена из всех прочих английских поэтов этого века?
Ну, он сам объясняет это, не так ли, с точки зрения стихов Одена о времени, преклоняющемся перед языком[401]? Меня это объяснение убеждает в том, что тут нет никакой случайности, поглощенность Бродского этим такова, что английский поэт, попавший в его сети, будет, говоря подобные вещи, ему созвучен. Я, возможно, не только не проясню до конца вопрос, но даже затемню его, заявляя совершенно противоположный пример из собственного опыта столкновения с тем, как английский читатель будет воспринимать русскую поэзию. Когда я читал в переводах Пастернака, первым просочившегося вследствие всеобщего интереса к "Доктору Живаго" тридцать лет назад, это был полнейший взрыв чувственности и эмоций, заставивших меня подумать: вот эстетика, которую я привью, это что-то, что я хотел бы написать, и чего нет в английской поэзии. Английская поэзия частенько представляет собой исключительно морализаторскую разновидность. Дидактизм Одена, его готовность к морализаторству, явились, возможно, для Бродского освежающими, поскольку ему несомненно нравится работать на этом уровне, и по иным, чем у Одена, причинам. Он обладает, например, могущественной метафизикой формы и дисциплины. Как он говорит о том, почему рифма так эффективна? Что-то вроде "она придает форму вашей умственной деятельности по меньшей мере более чем одним способом; она становится вашим методом познания" [L:350]. Так что я вижу в этом притягательность Одена.

Цель «Словаря» – дать по возможности наиболее полное представление о цветовой палитре поэзии Бродского. Помимо общепринятых цветообозначений, в «Словарь» включены все названия цветов и растений. Материалом для «Словаря» послужили все опубликованные стихи Бродского и его неизданные стихотворения, вошедшие в состав самиздатовского четырехтомника, составленного В. Марамзиным, а также хранящиеся в американских и российских архивах. «Словарь» позволит исследовать цветообразы в разных поэтических жанрах Бродского и облегчит ответ на вопросы о генезисе цветовой палитры Бродского, о причинах ее эволюции в английских стихах, о традиционности и новаторстве в цветовой символике поэта.

Жизнеописания Иосифа Бродского не существует, несмотря на вполне закономерный интерес читателей к его личности и судьбе.Книга «Иосиф Бродский глазами современников (1996–2005)» в известной степени восполняет этот пробел в истории культуры XX века.Читатель видит поэта глазами его друзей, переводчиков, издателей из России, США, Англии, Франции, Италии, Польши, Швеции, Израиля. В итоге создается широкая картина жизни Иосифа Бродского в разные периоды. Читатель получает представление о личности одной из самых ярких и загадочных фигур последних десятилетий русской и мировой культуры.Валентина Полухина — профессор Кильского университета (Англия), специалист в области современной русской поэзии, автор ряда работ о творчестве Иосифа Бродского «Joseph Brodsky: A Poet for Our Time» (CUP, 1999), «Brodsky Through the Eyes of his Contemporaries» (London: Macmilan, 1992) (расширенные русские версии: «Бродский глазами современников» (СПб.: Журнал «Звезда», 1997) и «Словарь тропов Бродского» (совместно с Юлей Пярли; Тарту, 1995))
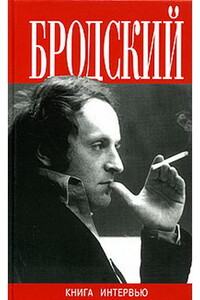
От составителя и издателяВыбрать из 153 интервью самые интересные, самые содержательные, избежав повторений, оказалось весьма непросто. Повторы смущали и самого Бродского, но он их воспринимал как неизбежность жанра интервью. Однако нам представляется, что для читателя повторы представляют немалую ценность, ибо подчеркивают круг идей, которые не оставляли Бродского в покое в течение всей его жизни. Кроме того, чтобы исключить повторы, пришлось бы подвергнуть некоторые интервью своего рода цензуре, что в высшей степени неэтично: все собеседники Бродского вправе рассчитывать, что при перепечатке их интервью не будут изменены.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
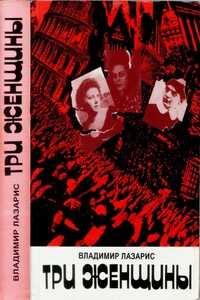
Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Записки рыбинского доктора К. А. Ливанова, в чем-то напоминающие по стилю и содержанию «Окаянные дни» Бунина и «Несвоевременные мысли» Горького, являются уникальным документом эпохи – точным и нелицеприятным описанием течения повседневной жизни провинциального города в центре России в послереволюционные годы. Книга, выходящая в год столетия потрясений 1917 года, звучит как своеобразное предостережение: претворение в жизнь революционных лозунгов оборачивается катастрофическим разрушением судеб огромного количества людей, стремительной деградацией культурных, социальных и семейных ценностей, вырождением традиционных форм жизни, тотальным насилием и всеобщей разрухой.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Автор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера» в предреволюционные годы принял непосредственное участие в проведении реформаторской политики С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Иван Тхоржевский сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири. После революции вынужден был эмигрировать. Многие годы печатался в русских газетах Парижа как публицист и как поэт-переводчик. Воспоминания Ивана Тхоржевского остались незавершенными. Они впервые собраны в отдельную книгу. В них чувствуется жгучий интерес к разрешению самых насущных российских проблем. В приложении даются, в частности, избранные переводы четверостиший Омара Хайяма, впервые с исправлениями, внесенными Иваном Тхоржевский в печатный текст парижского издания книги четверостиший. Для самого широкого круга читателей.