Братец - [3]
Замечательно, что Сергей Андреевич принимал все это будто должное, с большим достоинством и очень хладнокровно. Если мать, говоря о запутанных делах по имению, восклицала:
— Ах, Серженька, на тебя одна надежда!
Он отвечал с уверенностью:
— Да, конечно, вы ни о чем понятия не имеете.
И это выслушивалось, как будто так и следовало. Если мать жаловалась на нездоровье, Сергей Андреевич объяснял ей, что она объелась и с необыкновенной точностью припоминал все, что она ела два-три дня назад; доказательства были неопровержимы, спорить было нечего — оставалось только еще выслушать несколько морали о невоздержании. Если Любовь Сергеевна, думая "занять" своего идола, принималась рассказывать ему что-нибудь, она могла ясно видеть по его физиономии, что он устал давно и слушает единственно из учтивого снисхождения, чтоб оставить ей удовольствие говорить. Чаще всего он уходил, не сказав ни слова, просто вставал и уходил, едва она кончила рассказ; или иногда вдруг глубокомысленно расспрашивал подробности, заставлял повторять, делал замечания и заключения, и — чудо! — люди, которых Любовь Сергеевна считала и хотела выказать умными, оказывались дураками, и наоборот…
Он не шутил почти никогда, только изредка, тонко и не совсем понятно подшучивал над сестрой Верой. Он продолжал считать ее ребенком, учил ее входить в гостиную, кланяться, здороваться, находя, что она не умеет ничего этого делать; заставлял ее говорить громче или тише, как случалось или как ему вздумается; заставлял повторять слова русские, находя, что она не так их произносит, что она говорит не по-русски, неправильно; заставлял объяснять то, что она сама говорила, уверяя ее, что она сама не понимает того, что говорит… Вера играла на фортепиано: ее выучила старшая сестра, совсем оставившая музыку; но Вера любила музыку и занималась ею охотно; у нее было старенькое фортепиано и старенькие ноты; что-нибудь новое доставалось с большим трудом. Музыка сделалась новым источником мучений для бедной девушки: братец был знаток и любитель; он бывал во всех концертах и постоянно посещал оперу; к счастью Веры, тогда еще в Петербурге не было итальянской оперы. Сергей Андреевич нашел, что должен дать сестре несколько советов; как меломан, он был очень недоволен, но как человек порядочный, умел выражаться не шумя.
— Ты понимаешь, — тихо и мягко говорил он испуганной самоучке, которая, не смея заплакать, уже не различала отуманенными глазами пожелтелых клавишей свего фортепиано, — ты понимаешь, я не хочу, чтоб всякий имел право сказать, что ты колотишь, как барабанщик; если ты не можешь переменить свою методу, так нечего и играть…
— В самом деле, для Серженьки это тяжело, что она так играет, — говорила между тем шепотом мать Прасковье Андреевне, — ты бы тоже поговорила ей, чтоб она переменила методу.
— Не понимаю, какое ему дело? — возразила холодно Прасковья Андреевна, — она играет как умеет.
— Что еще такое?
— Она играет для своего удовольствия; она не училась.
— Как это "не училась"?
— Учителей не было.
— У кого же они были?
— У братца были, — отвечала Прасковья Андреевна, покраснев, но тихо,
И после этого, что бы ни говорилось, она не возражала более ни слова.
Только, замечая ее пристальный, ничего не выражавший взгляд и напрасно попробовав таким же пристальным взглядом заставить ее потупить глаза, Сергей Андреевич начинал говорить матери, что Катю надо отдать в институт, или замечал Вере за обедом, что она не так держит вилку, не так берет кушанье…
Может быть, в мире, не было существа добрее и терпеливее Веры. Она ни от чего не приходила в негодование, ничем не оскорблялась; она могла только плакать, роптать на судьбу, но никогда на людей. У этой грустной покорности была причина еще более грустная: Вера с детства слышала, что она дурна и глупа, и наконец поверила, что это справедливо и что все правы, не допуская ее иметь своего мнения даже о самых обыкновенных вещах. После такого убеждения она совсем перестала думать, рассчитывая, что для нее, слабоумной, это совершенно лишний труд. Она в самом деле отупела. В детстве игры, шалости могли бы развить в ней понятливость; но, больное дитя, она не могла развиться, как другие дети; она целые дни сидела не с куклой, а с чулком в руках, все у одного и того же окна, в которое посматривала в тупом, рассеянном раздумье… И так прошли целые годы; чулок был заменен пяльцами. Вера запомнила все бревна и все щели забора, который возвышался перед окном… Ей беспрестанно говорили, что с больными тоска, и она вообразила, будто она в тягость целому свету и что это уже великая милость, если не только как-нибудь заботятся о ней, но только терпят ее… После этого все казались ей справедливы, все милостивы, а умны были все так в ее глазах, что она всех боялась.
Она была уже в таком возрасте, что могла б быть подругою старшей сестре, но их характеры были так непохожи и Прасковья Андреевна так давно привыкла к своему одиночеству, что не могла сблизиться с Верой. Вера доставляла ей слишком много забот, слишком часто приходилось вступаться за нее, хлопотать о разных мелочах, научать ее, как вести себя, чтоб жить если не счастливо, то хотя покойно. В чем могла быть виновата безответная девушка — неизвестно; но ей часто случалось быть виноватой и приходилось бы очень тяжело, если б не выручала Прасковья Андреевна… Забота утомляет. Мать может не тяготиться заботой о своем ребенке, потому что имеет власть над ним, потому что свободна и не поставлена в необходимость сама беспрестанно извертываться, отстаивать мелочи, выпрашивать мелочи, подвергаясь выговорам, упрекам, неприятностям. Если и бывают матери, которые терпят это, то им придает силы их материнское чувство; но забота о равной, забота, стоящая досады, огорчений, утомляет, наводит на злую мысль, что слабое существо, которому так покойно под нашей защитой, могло бы само за себя хлопотать; эта забота наскучает до того, что предмет ее становится не мил… Во всех есть доля эгоизма, — в молодых девушках более, нежели в ком другом, а Прасковья Андреевна проживала самые лучшие годы молодости в то время, когда ей приходилось терпеть за сестру. Ее утомление и эгоизм выразились только-тем, что она не могла сделать из своей сестры себе подругу, поверенную; сестра не была ей необходима. Но Вера была существо такое слабое, жалкое, вялое, что не могла быть необходима кому-нибудь, тем менее Прасковье Андреевне, недовольной, скучающей, раздраженной и принужденной молчать и молча бороться. Они сошлись бы, может быть, если б им было дано настоящее образование, если б кто-нибудь с детства принял в них участие и наставил их; этого не случилось. Они любили друг друга горячо, но в то же время как-то странно: любовь одной смешивалась с каким-то мелким подобострастием, любовь другой — с каким-то унижающим состраданием…
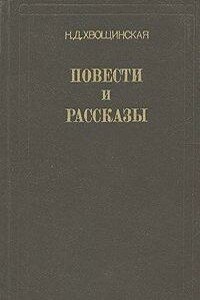
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
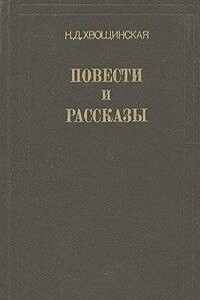
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
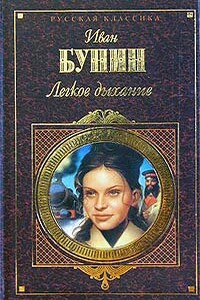
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Второй том собрания сочинений классика Серебряного века Бориса Зайцева (1881–1972) представляет произведения рубежного периода – те, что были созданы в канун социальных потрясений в России 1917 г., и те, что составили его первые книги в изгнании после 1922 г. Время «тихих зорь» и надмирного счастья людей, взорванное войнами и кровавыми переворотами, – вот главная тема размышлений писателя в таких шедеврах, как повесть «Голубая звезда», рассказы-поэмы «Улица св. Николая», «Уединение», «Белый свет», трагичные новеллы «Странное путешествие», «Авдотья-смерть», «Николай Калифорнийский». В приложениях публикуются мемуарные очерки писателя и статья «поэта критики» Ю.
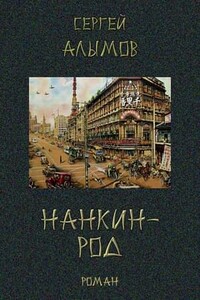
Прежде, чем стать лагерником, а затем известным советским «поэтом-песенником», Сергей Алымов (1892–1948) успел поскитаться по миру и оставить заметный след в истории русского авангарда на Дальнем Востоке и в Китае. Роман «Нанкин-род», опубликованный бывшим эмигрантом по возвращении в Россию – это роман-обманка, в котором советская агитация скрывает яркий, местами чуть ли не бульварный портрет Шанхая двадцатых годов. Здесь есть и обязательная классовая борьба, и алчные колонизаторы, и гордо марширующие массы трудящихся, но куда больше пропагандистской риторики автора занимает блеск автомобилей, баров, ночных клубов и дансингов, пикантные любовные приключения европейских и китайских бездельников и богачей и резкие контрасты «Мекки Дальнего Востока».
