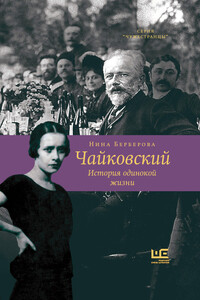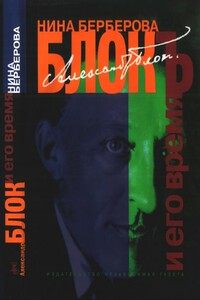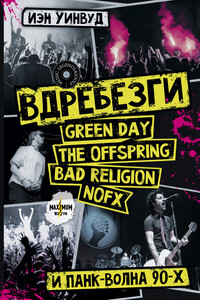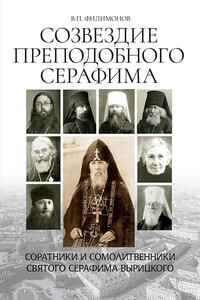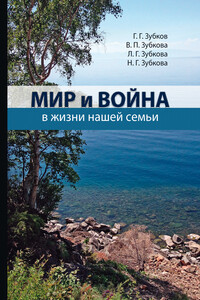«Ты не поверишь, как летит время в этом водовороте, в этой бесконечной толчее жизни…»
И в кумачовой рубахе, в высоких сапогах, он много танцевал и смеялся, плотно ужинал, пел хором, подражал кому-то.
«…Дни мелькают за днями, точно телеграфные столбы мимо поезда по железной дороге, который несется на всех парах…»
В аудитории, где гремел рояль и где отплясывали кадриль так любившие его, но так мешавшие ему жить люди, он внезапно запнулся на полуслове и со всего громадного роста, со всей своей важностью рухнул на пол.
«…Иногда, право, становится даже страшно, когда подумаешь, как бежит время, и куда бежит, и ради чего бежит…»
Это был разрыв сердца. Сперва у плясавших мелькнула мысль, что он шутит — многие хохоча продолжали кадриль, особенно дальние, и не сразу остановили тапера.
Там, где был похоронен Мусоргский и где Александр Порфирьевич говорил над ним речь, подле огромного, безобразного монумента был поставлен и ему самому монумент — еще страшнее, роскошнее и безобразнее. Словно подражая тяжелой его фигуре, огромному мертвому телу, на руках принесенному сюда, огромные повисли венки с лентами из жесткого золотого глазета, с черными бархатными буквами, прославляющими ученого, музыканта и либерала, с золотыми кистями — размером в его кулак. Тяжелая решетка сдавила могильную плиту; мраморный бюст в воротничке и галстуке был прижат гранитным сводом грузной памятной доски с выгравированными темами его музыкальных сочинений, с славянской вязью фамилии, с химическими формулами его открытий. Две страшные лавровые ветви поднялись над бюстом и скрещиваются вверху — все это должно изображать «золотую музыкальную страницу, вписанную Бородиным в историю России».
Корсаков и Глазунов разбирали его последние работы. В день смерти он что-то подчищал в III симфонии, а накануне сидел над хором половецкого дозора. Тут же валялся чей-то доклад по гигиене, просмотренный и одобренный Бородиным. На докладе был нарисован камертон.
1937