Борьба за наследство Киевской Руси: Краков, Вильнюс, Москва - [5]
В том же 1012 г. князь Яромир был изгнан из Чехии своим братом Ульрихом и вынужден был бежать к двоюродному брату и бывшему врагу Болеславу Польскому, а затем прибегнуть к заступничеству архиепископа Вальтарда, но тот уже не в силах был ему помочь. А Болеслав, узнав о смерти архиепископа, собрал войско и захватил г. Лебус на реке Флеминг. В это время на Руси произошли серьезные политические изменения, требовавшие участия Болеслава в этих событиях. Поэтому в начале 1013 г. Болеслав направил послов к Генриху II с просьбой о мире, и вскоре прибывший к королю сын Болеслава Мешко клятвой подтвердил верность за себя и отца.
События этого времени, т. е. последних лет жизни князя Владимира I Святого, в «Повести временных лет» просто отсутствуют. Поэтому воспользуемся сведениями современника этих событий Титмара, епископа Мерзебурга, который был столицей короля, затем императора Германии Генриха II. Титмар, судя по «Хронике», не благоволил к Болеславу Польскому из-за его военного противодействия королю, поэтому вряд ли придумал столь успешные действия Болеслава на Руси.
Титмар сообщает, что в канун праздника Пасхи, отмечавшегося в 1013 г. 5 апреля, к королю Генриху II прибыл Болеслав I. «В святой день он, сложив руки, стал вассалом короля; принеся королю оммаж, он, в качестве оруженосца, сопроводил его, – бывшего в полном уборе, – в церковь. В понедельник он расположил к себе короля, принеся ему богатые подарки от себя и своей супруги; затем, получив от королевских щедрот еще большие и лучшие дары, – в том числе давно желанный лен (Лаузиц. – Ю. Д.), – он с честью и радостью отпустил данных ему заложников. После этого он с нашей помощью напал на Русь. Опустошив большую часть этой страны, он приказал перебить всех печенегов, когда между ними и его людьми случилась размолвка, хоть те и были его союзниками» [75, 128]. В этом кратком сообщении ничего не сказано о причинах похода Болеслава на Русь, но определен год, когда это было совершено. Более широкие объяснения Титмар делает при описании жизни киевского князя Владимира I.
«А теперь перейду ради осуждения к рассказу о нечестивом деянии Владимира, короля Руси. Он взял из Греции жену по имени Елена, которая была просватана за Оттона III, но коварным образом отнята у него, и по ее настоянию принял христианскую веру, которую не украсил праведными делами. Ибо он был великий и жестокий развратник и чинил изнеженным данайцам великие насилия. У него было три сына; одного из них он женил на дочери князя Болеслава, нашего гонителя, и поляки прислали вместе с ней Рейнберна, епископа Кольберга. Тот родился в округе Гассегау; обученный мудрыми наставниками свободным искусствам, он достиг сана епископа, которого, как я думаю, был достоин. Ни знания моего, ни красноречия не достает, чтобы сказать, сколько труда положил он во вверенной его попечению [епархии]. Святилища идолов он, разрушив, сжег; море, обжитое демонами, он, бросив туда 4 помазанных святым елеем камня и освятив водой, очистил; взрастил для всемогущего Господа новую ветвь на бесплодном древе, то есть привил чрезвычайно бестолковому народу слово святой проповеди. Утомляя свое тело постоянными бдениями, постом и молчанием, он готовил свое сердце к созерцанию образа Божия. Названный король, услышав, что сын его, подстрекаемый Болеславом, тайно готовился восстать против него, схватил его вместе с женой и названным отцом и заключил их, отдельно друг от друга, под стражу. Будучи под арестом, достопочтенный отец то, что открыто не мог совершить во славу Божью, старательно совершал втайне. В слезах принеся жертву постоянной молитвы, он от чистого сердца примирился с высшим священником, после чего, освободившись от тесной темницы тела, радуясь, отправился к свободе вечной славы…
Болеслав же, узнав обо всем этом, не преминул отомстить, насколько мог. После этого названный король, исполненный дней, умер, оставив все свое наследство двум сыновьям, тогда как третий до сих пор находился в темнице; позднее, улизнув оттуда, но оставив там жену, он бежал к тестю» [75, 162].
По всей вероятности Болеслав еще в 1013 г. освободил своего зятя и дочь, а затем заключил с побежденным князем Владимиром какой-то договор, по которому Владимир оставался княжить в Киеве вместе со Святополком или был совсем отстранен от власти в пользу приемного сына.
Эти события описываются в «Повести временных лет», в которой под 1011 г. сообщается о смерти жены князя Владимира Анны, которую Титмар почему-то называет Еленой. Следующие 1012 и 1013 гг. в летописи представлены только годами без описания каких-либо событий. Под 1014 г. в летописи приводится информация о том, что новгородский князь Ярослав, сын князя Владимира от Рогнеды, перестал платить своему отцу и суверену положенную ежегодную дань, за что тот собирался с войском идти на Новгород для принуждения сына к покорности, но разболелся. Под 1015 г. сообщается, что «когда Владимир собрался идти против Ярослава, Ярослав, послав за море, привел варягов, так как боялся отца своего; но Бог не дал дьяволу радости. Когда Владимир разболелся, был у него в это время Борис. Между тем половцы пошли походом на Русь, Владимир послал против них Бориса, а сам сильно разболелся; в этой болезни и умер июля в пятнадцатый день. Умер он на Берестове, и утаили смерть его, так как Святополк был в Киеве» [62, 96].
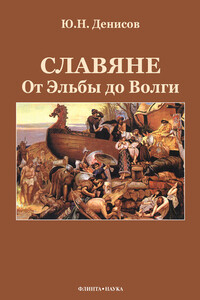
Эта книга посвящена одной из версий происхождения славян. Европу с I в. до н. э. по IX в. завоевывали волна за волной все новые захватчики: сарматы, готы, гунны, авары. Это были не просто грабители, которые как пришли, так и ушли, а победители, создававшие на оккупированных территориях рабовладельческие государства, по территориям и населению не уступающие Римской империи в годы ее расцвета. В промежутках между разрушением государства одних завоевателей и приходом следующих в течение иногда многих десятков лет освободившиеся рабы создавали новые этносы, которые греки и римляне называли склавинами.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.