Богданов Иван Петрович - [5]
Я не намерен размалевывать своих героев красавчиками, а приведу их, какими они есть, в ваше общество, расфуфыренное да надушенное, и скажу только: «Позвольте представить: граждане дальнеокольного тупика». Вы их выгнать из вашего лощеного общества не сможете, потому что они не пьяны, матерным словом не ругаются, писаны на маковом масле, а только невидимо свой потный дух пускают, от которого вы новыми платочками отмахиваетесь.
И мне не нужно для моего персонажа милостыни или подачки, я буду доволен лишь появлением их в вашем благородном обществе, этим маленьким скандальчиком, а кто сможет и уразуметь их – пусть делает выводы. Поняли?
Когда мы, гости, в поздний час вышли от Ивана Петровича на безлюдный тупик, то почувствовали некоторое смущение.
Один из нас даже так выразился:
– А знаете ли? Не кажется ли вам, что он нам как бы на хвост наступил? В его обличении есть правда, хоть и сам он делает не так, как бы надо; в этом надо разобраться.
Тут мы услышали окрик Богданова; он остановил и догнал нас.
– Обождите, – начал запыхавшийся Иван Петрович, – я не сказал вам самого главного. За что вы на меня набросились? За то, что я мал, что таблице умножения народ поучаю? Но вы не замечаете того, что я есть воплощенное передвижничество, пусть хоть его слабой стороны, пусть хоть некоторый минус, но минус от большой величины, и во мне бродит все же закваска от хорошего в передвижничестве, а вы, гастрономы, не знаете, во что верить, и если еще осталось у вас что ценное, так это реализм в живописи, а остальное – рахат-лукум и тру-ля-ля в припляску.
Вон Пушкин о себе да обо мне золотые слова на своем памятнике начертил: «И долго будем мы с тобой любезны тем народу». Поймите: он да я, передвижник, будем любезны, а не вы, опустошенные!
Тут Иван Петрович так громко расхохотался, что на дровяном складе задремавший было сторож встряхнулся и забарабанил колотушкой.На собрания передвижников, еженедельно проводившиеся в Училище живописи, Богданов являлся аккуратно к назначенному часу, в черном сюртуке, сорочке с крахмальным отложным воротничком, при хорошем галстуке. Вид у него был серьезный, деловой.
В начале собрания подавался обыкновенно чай с лимоном и печеньем. Завязывался разговор о делах Товарищества, или велась товарищеская беседа. Иван Петрович внимательно ко всему прислушивался, прищурив глаза и приставив руку к уху (с ним приключилась беда: постепенно он начал терять слух, и у каких только докторов ни лечился, никто ему не помог, недуг его, к большому огорчению, все прогрессировал). Иногда он вставлял свои замечания – коротко, но настойчиво. Если чего недопонимал или собеседник говорил о чем-либо неосновательно, то Иван Петрович тыкал своим толстеньким пальцем в его грудь, и слышался его резкий голос:
– Ну да, это так, но что ж из этого? На веру все же нельзя принять, вы докажите, чтобы ясно было, а то так, здравствуйте: ни с того, ни с сего и вывод откуда-то взялся! Нет, нет, извините, так никак невозможно.
Отделаться общими словами от Богданова нельзя было. Он начинал пилить собеседника за всякое необоснованное слово, за ошибочное утверждение. И его за это даже прозвали пилой.
– Ну что же, – смеялся Иван Петрович, – пила и есть, и пилить до смерти буду, потому что нельзя бросать слова зря; за каждое слово человек отвечать должен, иначе – запилю!
И хохотал громко, заразительно.
Когда в конце собрания подавали ужин, Ивану Петровичу предстояла и здесь серьезная работа. Он внимательно рассматривал закуски, выбирал по свому вкусу, накладывал всего основательно и принимался работать крепкими челюстями так, что далеко было слышно, как хрустят косточки, если ему на зубы попадала птица. Покончив с одной закуской, он запивал ее рюмкой вина и с прежней сосредоточенностью принимался за последующее, не обращая внимания на шутки товарищей, наблюдавших за его едой.
К старшим товарищам, большим мастерам в искусстве, он относился с уважением и даже почтением.
Заговорит, бывало, Суриков – Иван Петрович насторожится, вытянется на полстола и не проронит ни одного слова, а потом говорит:
– Видишь, как выходит? Говорили все много, а позабылось, кто и что говорил, а слово Василия Ивановича мы все помним, потому что слово, как вера, без дел мертво есть, у Сурикова же за словом целая гора дел навалена. Вот ему и веришь, потому у него дела верные.Однажды на собрании шел жаркий спор о различных направлениях в искусстве; одни ратовали за идею, другие противопоставляли ей форму, и, как всегда в этих спорах, никто никому ничего не мог доказать и никто никого не мог убедить.
Богданов хмурился, вставал с места, подходил вплотную к говорившим и прислушивался одним ухом, запоминая каждое слово из разговора. Потом заговорил со мной:
– Знаешь что? Приходи-ка завтра ко мне непременно; я хочу показать тебе, что я надумал писать, да поговорим и о сегодняшнем вечере; эти разговоры переварить надо, чтоб от них была польза.
Пришел я к Ивану Петровичу на другой день в сумерках, с некоторым опозданием, за что мне, конечно, досталось.
– Не люблю, – кипятился Богданов, – когда люди не приходят к назначенному времени, вот теперь придется показывать свой эскиз при лампе, и чай пил я в одиночестве.
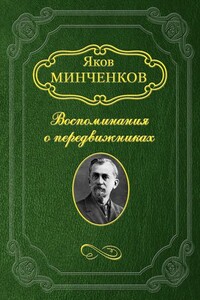
«Беггров был постоянно чем-то недоволен, постоянно у него слышалась сердитая нота в голосе. Он был моряк и, быть может, от морской службы унаследовал строгий тон и требовательность. В каком чине вышел в отставку, когда и где учился – не пришлось узнать от него точно. Искусство у него было как бы между прочим, хотя это не мешало ему быть постоянным поставщиком морских пейзажей, вернее – картин, изображавших корабли и эскадры…».
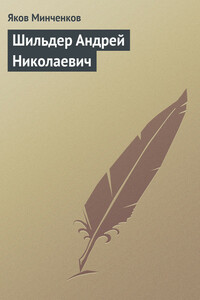
«…К числу питерцев, «удумывающих» картину и пишущих ее более от себя, чем пользуясь натурой или точными этюдами, принадлежал и Шильдер. Он строил картину на основании собранного материала, главным образом рисунков, компонуя их и видоизменяя до неузнаваемости. Часто его рисунок красивостью и иногда вычурностью выдавал свою придуманность. У него были огромные альбомы рисунков деревьев всевозможных пород, необыкновенно тщательно проработанных. Пользуясь ими, он мог делать бесконечное множество рисунков для журналов и различных изданий…».

Воспоминания одного из поздних передвижников - Якова Даниловича Минченкова - представляют несомненный интерес для читателя, так как в них, по существу впервые, отражена бытовая сторона жизни передвижников, их заветные мечты, дружба, трогательная любовь к живописи и музыке. Однако автор не всегда объективно оценивает события, омногом он говорит неопределенно, не указывая дат, некоторых фактов, называет некоторые картины неточными именами и т. п. Поэтому редакция считала необходимым снабдить книгу подробными примечаниями, дающими точные сведения о жизни и деятельности художников, упоминаемых в книге.

«Если издалека слышался громкий голос: «Это что… это вот я же вам говорю…» – значит, шел Куинджи.Коренастая, крепкая фигура, развалистая походка, грудь вперед, голова Зевса Олимпийского: длинные, слегка вьющиеся волосы и пышная борода, орлиный нос, уверенность и твердость во взоре. Много национального, греческого. Приходил, твердо садился и протягивал руку за папиросой, так как своих папирос никогда не имел, считая табак излишней прихотью. Угостит кто папироской – ладно, покурит, а то и так обойдется, особой потребности в табаке у него не было…».
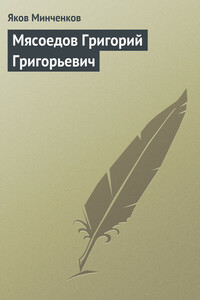
«…Мясоедов был столпом передвижничества. Собственно, у него родилась идея образования Товарищества передвижников. Он приехал от кружка московских художников в Петербург, в Артель художников, возглавляемую Крамским, добился объединения питерцев с москвичами в Товарищество передвижных художественных выставок и был самым активным членом его до последних дней своих. Как учредитель Товарищества он состоял бессменным членом его Совета…».

«…Познакомился я с Поленовым, когда окончил школу и вошел в Товарищество передвижников. При первой встрече у меня составилось представление о нем, как о человеке большого и красивого ума. Заметно было многостороннее образование. Поленов живо реагировал на все художественные и общественные запросы, увлекался и увлекал других в сторону всего живого и нового в искусстве и жизни. Выражение лица его было вдумчивое, как у всех, вынашивающих в себе творческий замысел. В большой разговор или споры Поленов не вступал и в особенности не выносил шума, почему больших собраний он старался избегать…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
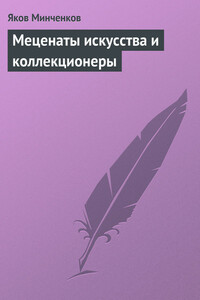
«…У передвижников был свой небольшой круг меценатов и коллекционеров, которые ежегодно расходовали почти одну и ту же сумму на приобретение картин на выставках. Кроме того, являлись случайные лица, изредка покупавшие небольшие вещи и исчезавшие потом с горизонта.Одни из коллекционеров приобретали картины в свои собрания для своего лишь удовольствия, а некоторые ставили себе задачей поддержать народившееся национальное искусство передвижников, его направление, вместе с некоторой заботой и о бытовых условиях художника, о его материальном благополучии.
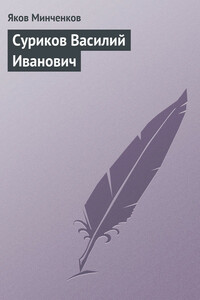
«…Был ли он потомком лихих завоевателей Сибири или купцов, рыскавших и менявших товары на меха и золото «инородцев», – не знаю, но вся фигура его ярко выделялась на фоне людей, попавших под нивелировку культуры и сглаженных ею до общего среднего уровня. В основе его натуры лежал несокрушимый сибирский гранит, не поддающийся никакому воздействию.Самобытность, непреклонная воля и отвага чувствовались в его коренастой фигуре, крепко обрисованных чертах скуластого лица со вздернутым носом, крупными губами и черными, точно наклеенными усами и бородой.
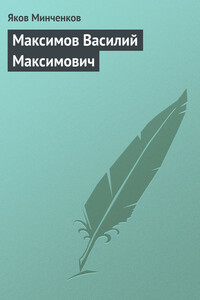
«…Максимов был типичным представителем крестьянской среды, пробившей дорогу к искусству в эпоху народничества в шестидесятых годах.Чего стоило крестьянскому юноше попасть в город и учиться здесь! У Максимова это был сплошной подвиг, горение духа, которое опрокидывало все препятствия на пути к достижению намеченной цели и делало его борцом за современные идеи в искусстве. И небольшая фигура Максимова при воспоминании об условиях его жизни, обо всех поборенных им препятствиях, о его настойчивости и его достижениях вырастает в определенный положительный тип, которому надо отдать дань признания…».

«…Я стараюсь воскресить перед собой образ Репина, великого реалиста в живописи, как я его понимаю – во всей правде, со всеми его противоречиями и непоследовательностью в жизни.В его натуре я видел поразительную двойственность. Он казался мне то гением в творчестве, борцом с сильной волей, преодолевающим на своем пути всякие жизненные трудности, громким эхом, откликающимися на все общественные переживания, служителем доподлинной красоты, – то, наоборот, в моей памяти всплывают черточки малого, не обладающего волей человека, не разбирающегося в простых явлениях жизни, и мастера без четкого мерила в области искусства…».