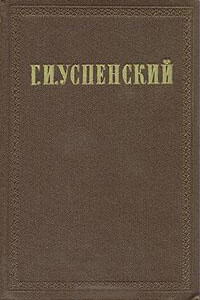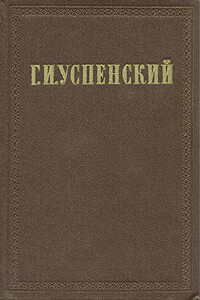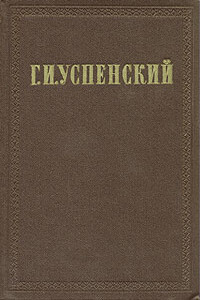— Что такое? Что такое касаемое?.. Отчего вы документ у него не спросили? Ведь эдак придет к вам кто хочет, назовется агентом, потребует, что захочет, вы так ему и отвалите?
Мирон Иванович молчал, пожимая плечами, расставлял руки и бормотал:
— Нешто мы что?.. Мы, что нам скажут, обязаны не ослушаться. Говорит, тайный я — ну…
— Ну а если бы, — перебил я его, — агент тот сказал вам так: я — агент, приказано взять у тебя каурую кобылу… Вы тоже бы не ослушались?
Слово "кобыла" мгновенно, как нашатырный спирт, осветило его… Ему стало совершенно ясно, до какой степени он глуп и даже подл.
— Мало мне пятисот палок за это! — вдруг совершенно бодро и вполне сознательно воскликнул он.
— Вот видите, кобылу-то вам жалко стало?.. Спроси он у вас кобылу, вы бы непременно сказали: "покажи бумагу!"… Ведь сказали бы?
— Кобылу-то ежели?.. Ну уж это я бы без сумления поостерегся…
— Видите! А тут приходит клеветник, пишет на человека пакость, да какую! Ведь вы знаете, что такое неблагонадежный?..
— Слыхали одним ухом.
— Ведь за "эти дела" людей ссылают в Сибирь, а вы ничего от моего приятеля кроме пользы не видали, ничего не замечали за ним дурного, из жалости-то к человеку не подумали даже спросить у проходимца вид! Сейчас печать приложили… Ведь это — человек, поймите вы пожалуйста! Вам жалко кобылу, а это — душа христианская, и вы его сразу, без разговору, печатью вашею подводите… подо что? Подумайте-ка хорошенько!.. Ну, если бы проходимец-то не засиделся у вас, а прямо бы от вас да на машину да протокол-то с вашей подписью представил бы к начальству — ведь моего приятеля стали бы таскать… А он живет своим трудом, никого не трогает, вам делает пользу… И не стыдно вам?
— Уж я сказываю, пятисот мало — что уж!..
Я помолчал, поглядел на него и сказал:
— Бессовестно это, Мирон Иванович! Ведь вы знали, чтб за "эти дела" бывает.
— Да ведь… слышим!
— Ну, а приятеля моего замечали в чем-нибудь?..
— Чего нам замечать-то? Ничуть ничего не замечали.
— А печать приложили?
— Глупость-то наша… а-ах ты, боже мой! Возможность утратить кобылу, хотя бы и по требованию настоящего "агента", привела старосту в чувство, в рассудок, и, пользуясь этим, я не жалел слов, которые бы могли рассеять в его голове ни на чем не основанную подозрительность к моему приятелю. И чем больше я распространялся, пояснял, тем более убеждался, что Мирон Иванов как будто успокаивается, теряет искренность раскаяния по отношению к моему приятелю, а думает о том только, что "эти дела" надо делать с опаской, а не зря. Пожалуй, в самом деле отнимут "этаким манером и кобылу и что-нибудь другое"…
— Да, — говорил он по временам, почти не слушая, о чем я говорю, — да, дал маху… Мне бы бумагу надо спросить было.
И так мы проговорили очень долго. Я говорил о приятеле, о том, как много ему наделали гадостей совершенно напрасно, а Мирон Иванов сокрушался о себе, о том, что "зря делал", а о приятеде моем как будто и позабыл.
Вот эта-то черта равнодушия к моему приятелю больше всего и трогала и интересовала меня во всей этой истории — не потому, что это был мой приятель, не потому, что в самом деле гадость сделана была напрасно, но потому, что это равнодушие исключительное. Такой истории не может быть ни с кем из деревенских обывателей: ни лавочник, ни курляндец, ни кабатчик, ни какой другой человек не может быть предметом такого непоколебимого равнодушия, попав в беду, какое суждено, переносить всякому, кто так или иначе получил наименование барина. Случись что-нибудь подобное с лавочником, с кабатчиком и вообще с любым из деревенских обывателей, — поверьте, что дело было бы не так просто и не так глупо: тут и спросили бы, и побоялись бы, и поостереглись, и потолковали бы. По отношению же к "барину" все такие дела делаются — решусь сказать это — даже не без удовольствия… Приятель мой слишком поверил моим советам "ни во что не мешаться" и в самом деле сделался для деревенских жителей отдельной, посторонней, независимой, ни с кем и ни с чем не связанной фигурой, и его определили словом "барин", "живет барин"… Вот этот-то "барин" и был причиною того, что Мирон Иванов сразу вручил печать, удостоверяющую вредность моего приятеля, тогда как он же наверное не сделал бы этого по отношению к кабатчику.
IV
Признаюсь, крепко обидел и рассердил меня этот тупоумный деревенский старичишка, которого необходимо было разжалобить возможностью утратить лошадь, чтоб он почувствовал возможность задуматься над участью человека. Деревянная башка была у этого старичишки, а таких деревянных голов весьма-таки многонько в деревне. Но это не идет к делу. Повторяю: немало негодования излил я на эту деревянную башку, но в то же время не мог не сознавать, что если деревянная башка старосты и виновата в том, что дело с моим приятелем сразу вскрыло нутро этой башки, то есть сразу показало, что башка всегда готова приложить печать к какой угодно бумаге, то скрытая готовность сделать барину что-нибудь подобное, если только можно, — воспитана не в одних только деревенских башках, подобных башке старосты, а таится решительно во всем, что не причисляет себя к разряду "бар", господ…