Бодлер - [4]
остроумцем, пошляком, денди? Или хотя бы констатировать живость или обширность собственного ума? Ведь у ума нет иных границ помимо тех, что определены изнутри него самого; и если только какой-нибудь наркотик не подстегивает бег его мысли, человек настолько привыкает к ее обычному ритму, что лишается возможности сравнивать и не в состоянии самостоятельно оценить ее скорость. Что же до подробностей его настроений и помышлений, то он предчувствует и предугадывает их заранее, еще до того, как они явятся на свет; они насквозь прозрачны и потому воспринимаются как нечто «уже виденное», «слишком хорошо знакомое», как нечто безобидно-привычное, отдающее сладковатым вкусом реминисценции. Бодлер полон, более того, переполнен самим собой, однако его «самость» подобна бесцветной и кристальной жидкости, лишенной плотности, упругости и окраски, — жидкости, которая не может быть ни объектом суждения, ни объектом наблюдения; это — лепечущее сознание, беспрестанно проговаривающее само себя в одном и том же темпе, не поддающемся ускорению. С одной стороны, Бодлер слишком привязан к самому себе, чтобы выбрать какую-то конкретную форму поведения, целиком увидеть себя со стороны, а с другой — он видит себя излишне хорошо для того, чтобы безраздельно погрузиться и раствориться в молчаливой привязанности к собственной жизни.
Вот здесь-то и начинается его драма: представьте себе ослепшего белого дрозда (ведь, поистине, повышенная рефлексивность есть не что иное, как своего рода слепота). Он заворожен мыслью о белизне собственных крыльев — о той белизне, которую видят, о которой рассказывают ему все прочие дрозды и которая неведома лишь ему одному. Прославленная бодлеровская ясность сознания — это всего лишь попытка компенсации. Дело для него идет о том, чтобы возвратить себя себе самому и — коль скоро зрительный акт есть акт присвоения и овладения — узреть самого себя. Между тем чтобы узреть себя, необходимо раздвоиться. Бодлер способен видеть собственные руки, ладони именно потому, что глаз отличен от руки; однако сам себя глаз увидеть не может, он может лишь чувствовать себя, свою жизнь; он не в силах установить по отношению к себе дистанцию, необходимую для самооценки. В «Цветах Зла» сказано:
(Пер. В. Левика.)
Однако эта душа, глядящаяся «сама в себя», едва полившись, тотчас же исчезает, ибо может быть только одна душа, Бодлер как раз и силится осуществить и повести до предела тот несостоявшийся опыт самораздвоения, которого требует всякое рефлексивное сознание. Если Бодлеру и вправду присуща исконная ясность мысли, то пользуется он ею не для того, чтобы отдать себе ясный отчет в своих ошибках, а для того, чтобы оказаться вдвоем. Вдвоем же он хочет быть затем, чтобы Я смогло стать обладателем Я. Он все время будоражит и распаляет свое ясное сознание: если поначалу он выступал в роли свидетеля по отношению к самому себе, то теперь пытается стать собственным палачом; он — Гэаутонтиморуменос. Сам себя истязающий (греч.). Ведь во всякой пытке рождается пара — пара неразрывно связанных между собою людей, где палач становится обладателем жертвы. Раз уж Бодлеру не удалось увидеть самого себя, то по крайней мере он попытается копнуть свою душу, словно ножом, разворачивающим рану, — в надежде добраться до «потаенных глубин», как раз и составляющих его подлинную природу:
(Пер. Лихачева.)
Вот почему всевозможные истязания, которым подвергает себя Бодлер, суть не что иное, как имитация акта обладания: под его пальцами рождается плоть, его собственная — через боль познающая себя — плоть. Причинять страдания — значит не только разрушать, но также обладать и созидать. Узы, связывающие мучителя и жертву, эротичны по своей природе. Между тем подобная связь имеет смысл лишь в отношениях между двумя разными людьми; Бодлер же тщетно пытается перенести ее в область своей внутренней жизни, превратив рефлексивное сознание в нож, а сознание рефлектируемое — в рану; однако в известном отношении оба эти сознания слиты воедино; строго говоря, самого себя невозможно ни любить, ни ненавидеть, ни истязать: когда рефлектируемое сознание добровольно требует пытки, а рефлексивное столь же добровольно отвечает согласием, то это означает, что палач и жертва сливаются в одно нераздельное целое. Впрочем, втайне Бодлеру хочется и другого — стать соучастником своего рефлектируемого сознания, бунтующего против сознания рефлексивного: как бы опомнившись, он время от времени прерывает самомучительство, принимаясь разыгрывать обезоруживающую непосредственность, прикидываясь, будто отдается любым импульсивным побуждениям, — и все это затем, чтобы в один прекрасный момент предстать перед собственным взором как некий оплотненный, неразгаданный предмет — как Другой. Увенчайся такая попытка успехом, и дело наполовину было бы сделано: Бодлер получил бы возможность испытать удовольствие от самого себя. Беда лишь в том, что и тут он оказывается неотделим от человека, за которым подсматривает. Мало сказать, что он упреждает собственные, еще даже не возникшие замыслы, — он заранее предвосхищает и вычисляет, как и в какой мере он изумится самому себе, он как бы гонится за собственным удивлением, хотя ему и не дано его догнать. Бодлер — человек, попытавшийся увидеть себя со стороны, словно другого, и вся его жизнь есть история этой неудавшейся попытки.
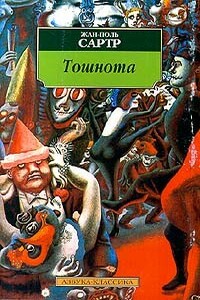
«Тошнота» – первый роман Ж.-П.Сартра, крупнейшего французского писателя и философа XX века. Он явился своего рода подступом к созданию экзистенционалистской теории с характерными для этой философии темами одиночества, поиском абсолютной свободы и разумных оснований в хаосе абсурда. Это повествование о нескольких днях жизни Антуана Рокантена, написанное в форме дневниковых записей, пронизано острым ощущением абсурдности жизни.
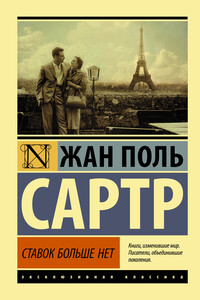
Роман-пьеса «Ставок больше нет» был написан Сартром еще в 1943 году, но опубликован только по окончании войны, в 1947 году. В длинной очереди в кабинет, где решаются в загробном мире посмертные судьбы, сталкиваются двое: прекрасная женщина, отравленная мужем ради наследства, и молодой революционер, застреленный предателем. Сталкиваются, начинают говорить, чтобы избавиться от скуки ожидания, и… успевают полюбить друг друга настолько сильно, что неожиданно получают второй шанс на возвращение в мир живых, ведь в бумаги «небесной бюрократии» вкралась ошибка – эти двое, предназначенные друг для друга, так и не встретились при жизни. Но есть условие – за одни лишь сутки влюбленные должны найти друг друга на земле, иначе они вернутся в загробный мир уже навеки…
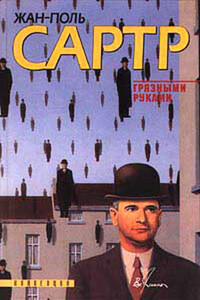
В первой, журнальной, публикации пьеса имела заголовок «Другие». Именно в этом произведении Сартр сказал: «Ад — это другие».На этот раз притча черпает в мифологии не какой-то один эпизод, а самую исходную посылку — дело происходит в аду. Сартровский ад, впрочем, совсем не похож на христианский: здание с бесконечным рядом камер для пыток, ни чертей, ни раскаленных сковородок, ни прочих ужасов. Каждая из комнат — всего-навсего банальный гостиничный номер с бронзовыми подсвечниками на камине и тремя разноцветными диванчиками по стенкам.
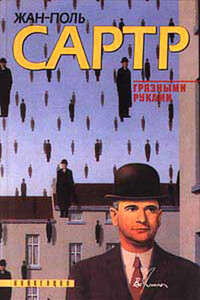
За городскими воротами, зашагав прочь от Аргоса, странствующий рыцарь свободы Орест рано или поздно не преминет заметить, что воспоминание о прикованных к нему взорах соотечественников мало-помалу меркнет. И тогда на него снова нахлынет тоска: он не захотел отвердеть в зеркалах их глаз, слиться с делом освобождения родного города, но без этих глаз вокруг ему негде убедиться, что он есть, что он не «отсутствие», не паутинка, не бесплотная тень. «Мухи» приоткрывали дверь в трагическую святая святых сартровской свободы: раз она на первых порах не столько служение и переделка жизни, сколько самоутверждение и пример, ее нет без зрителя, без взирающих на нее других.
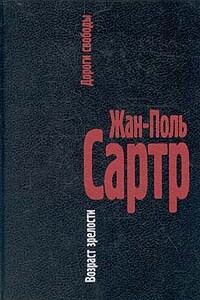
"Дороги свободы" (1945-1949) - незавершенная тетралогия Сартра, это "Возраст зрелости", "Отсрочка", "Смерть в душе". Отрывки неоконченного четвертого тома были опубликованы в журнале "Тан модерн" в 1949 г. В первых двух романах дается картина предвоенной Франции, в третьем описывается поражение 1940 г. и начало Сопротивления. Основные положения экзистенциалистской философии Сартра, прежде всего его учение о свободе, подлинности и неподлинности человеческого существования, воплощаются в характере и поступках основных героев тетралогии. .
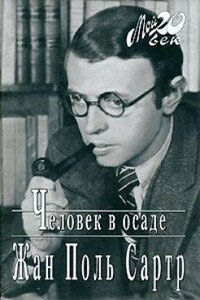
Книга «Экзистенциализм — это гуманизм» впервые была издана во Франции в 1946 г. и с тех пор выдержала несколько изданий. Она знакомит читателя в популярной форме с основными положениями философии экзистенциализма и, в частности, с мировоззрением самого Сартра.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.