Блокадная баня - [2]
— Наверное, сама воровала, крала.
— Детей, нас обворовывала.
И страшная костлявая женщина, подойдя к ней, легонько хлопнула по ее заду и сказала шутя:
— Эй, красотка, не ходи сюда — съедим.
Раздался короткий тихий смех:
— Как раз. У нас недолго…
А ведь, может, она приехала на помощь Ленинграду…
Ее сторонились, ею брезговали, здоровой и цветущей, больные и тощие, бессильные люди — брезговали ею как заразной больной, как прокаженной, не желая прикасаться к атласной ее, светящейся коже.
Так она была отвратительна — видение обыкновенной, здоровой, человеческой жизни, явление божественной плоти человека — венца создания — в том числе, как ему быть надлежит, явление чудотворной женской красоты, созданной для любви, материнства и деятельности.
Она вскрикнула, зарыдала, бросила таз и выбежала из помещения.
Потом был еще один случай. Я вынула голову из таза, она у меня кружилась. Я сидела, тяжело дыша, раскисшая, уставшая еще больше, равнодушная. Всхлипывающий влажный шепот, в котором слышались какие-то остатки страсти, привлек мое внимание. Это одна женщина рядом со мной так шептала. Глаза ее были устремлены на что-то впереди, и я поглядела туда же. Я увидела там старушоночку, блюзгавшуюся в мелком тазике. Даже при том уродстве, которое мы все собой представляли, эта старушоночка была исключительным явлением — до того мало человеческого в ней было. Она была как бы нарочно придуманная, Не темное, не коричневое, но как бы обугленное личико ее было составлено из хорошо видных костяшек, она была совершенно лысая, очень круглый выпирающий живот ее держался на паучьих ножках, да еще кила висела под животом, — в общем, она была похожа на паука, но отнюдь не на человека, даже не на обезьяну, а именно на паука. Она была живая, явно живая! Б глубоко-глубоко сидящих под черепом глазках ее что-то светилось, — она блюзгалась, даже не блюзгалась, а смачивала маленькими нечеловеческими ладошками свой лысый череп. И если непонятно было, откуда пришла та, жалкая, бесстыжая, румяная, то эта, эта-то откуда выползла! Тварь! Неужели же у нас в страшном, голодном городе есть место, где водятся этакие старушоночки?
А соседка моя глядела на нее как зачарованная и шептала:
— Мой помер, молодой, красивый, а такая живет… погиб, а такая живет… Вдруг только такие и останутся у нас на земле? За что же он погиб? За таких, за таких, за таких…
Старушоночка сидела на краю лавки, одиноко. Щедрый, широкий, мягко сияющий луч солнца лился на нее. Из трубы, проходившей возле лысой головы старушонки, брызгала, распыляясь на мельчайший веерок, струйка воды, и в этом водяном веерке плясала отчетливая семицветная радуга — прямо над лысой, черной головкой старухи, которую она смачивала паучьими своими лапками, — вся коричневая, согнутая колесом, скелетоподобная, с гнусной килой внизу живота. Все наше поруганное сконцентрировалось в ней. Она сидела в добром луче солнца, с семи цветным сиянием над головой, — она сидела, как сама Смерть, сама Война…
Я подумала: «Да, вот так и выглядит сама война, она не в образе солдата, одетого в железное, не в образе гориллы в каске, не в образе танка, а в образе этой бессильной, лысой, еле живой, но живущей уродливой старушонки со случайной радугой над головой…»
Из книги Ольги Берггольц «Встреча» (Санкт-Петербург, «Царское село», 2003)

Выпуск роман-газеты посвящён 25-летию Победы. Сборник содержит рассказы писателей СССР, посвящённых событиям Великой Отечественной войны — на фронте и в тылу.

Ольга Берггольц (1910–1975) – тонкий лирик и поэт гражданского темперамента, широко известная знаменитыми стихотворениями, созданными ею в блокадном Ленинграде. Ранние стихотворения проникнуты светлым жизнеутверждающим началом, искренностью, любовью к жизни. В годы репрессий, в конце 30-х, оказалась по ложному обвинению в тюрьме. Этот страшный период отражен в тюремных стихотворениях, вошедших в этот сборник. Невероятная поэтическая сила О. Берггольц проявилась в период тяжелейших испытаний, выпавших на долю народа, страны, – во время Великой Отечественной войны.

Ольгу Берггольц называли «ленинградской Мадонной», она была «голосом Города» почти все девятьсот блокадных дней. «В истории Ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых» (Д. Гранин). По дневникам, прозе и стихам О. Берггольц, проследив перипетии судьбы поэта, можно понять, что происходило с нашей страной в довоенные, военные и послевоенные годы.Берггольц — поэт огромной лирической и гражданской силы. Своей судьбой она дает невероятный пример патриотизма — понятия, так дискредитированного в наше время.К столетию поэта издательство «Азбука» подготовило книгу «Ольга.
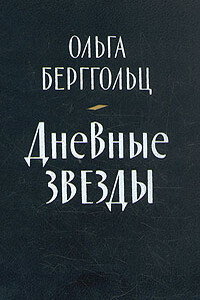
Автор: В одну из очень холодных январских ночей сорок второго года – кажется на третий день после того, как радио перестало работать почти во всех районах Ленинграда, – в радиокомитете, в общежитии литературного отдела была задумана книга «Говорит Ленинград». …Книга «Говорит Ленинград» не была составлена. Вместо нее к годовщине разгрома немцев под Ленинградом в 1945 году был создан радиофильм «Девятьсот дней» – фильм, где нет изображения, но есть только звук, и звук этот достигает временами почти зрительной силы… …Я сказала, что радиофильм «Девятьсот дней» создан вместо книги «Говорит Ленинград», – я неправильно сказала.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Светлов стал легендарным еще при жизни – не только поэтом, написавшим «Гренаду» и «Каховку», но и человеком: его шутки и афоризмы передавались из уст в уста. О встречах с ним, о его поступках рассказывали друг другу. У него было множество друзей – старых и молодых. Среди них были люди самых различных профессий – писатели и художники, актеры и военные. Светлов всегда жил одной жизнью со своей страной, разделял с ней радость и горе. Страницы воспоминаний о нем доносят до читателя дыхание гражданской войны, незабываемые двадцатые годы, тревоги дней войны Отечественной, отзвуки послевоенной эпохи.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
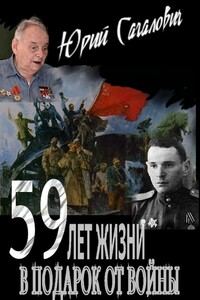
Воспоминания и размышления фронтовика — пулеметчика и разведчика, прошедшего через перипетии века. Со дня Победы прошло уже шестьдесят лет. Несоответствие между этим фактом и названием книги объясняется тем, что книга вышла в свет в декабре 2004 г. Когда тебе 80, нельзя рассчитывать даже на ближайшие пять месяцев.

От издателяАвтор известен читателям по книгам о летчиках «Крутой вираж», «Небо хранит тайну», «И небо — одно, и жизнь — одна» и другим.В новой книге писатель опять возвращается к незабываемым годам войны. Повесть «И снова взлет..» — это взволнованный рассказ о любви молодого летчика к небу и женщине, о его ратных делах.
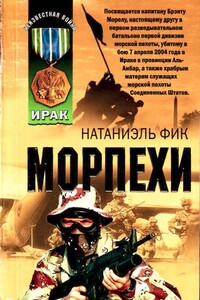
Эта автобиографическая книга написана человеком, который с юности мечтал стать морским пехотинцем, военнослужащим самого престижного рода войск США. Преодолев все трудности, он осуществил свою мечту, а потом в качестве командира взвода морской пехоты укреплял демократию в Афганистане, участвовал во вторжении в Ирак и свержении режима Саддама Хусейна. Он храбро воевал, сберег в боях всех своих подчиненных, дослужился до звания капитана и неожиданно для всех ушел в отставку, пораженный жестокостью современной войны и отдельными неприглядными сторонами армейской жизни.