Блок-ада - [5]
День прорыва блокады и день снятия блокады мама чтила свято, не так, как Пасху или 7 ноября, окна в квартире не мылись и полы не натирались, но в эти дни мама всегда была по-праздничному возбуждена, хлопотлива и готова к приему гостей, если кто заглянет.
Четвертое февраля, день смерти Бори и бабушки, маминой мамы, Ольги Алексеевны, также чтили свято, пеклись блины. А вот день смерти папиной мамы, Кароли Васильевны, пришелся на первое декабря сорок первого года, на годовщину злодейского убийства Сергея Мироновича Кирова, в честь чего многие годы в Ленинграде в этот день на улицах и площадях вывешивали траурные флаги, а с другой стороны, это был день рождения одной из драгоценных родственниц, так что бабушку, конечно, поминали, но отмечались лишь круглые даты.
Крупнейшим событием 1942 года стала смерть бабушки и Бори.
Третьего февраля сорок второго года, вечером, бабушка, уже давно не встававшая и лежавшая на оттоманке для тепла рядом с Борей, родившимся в ноябре, сказала маме: «Анечка, ты не плачь, сегодня ночью мы с Боренькой умрем».
Мама, как человек разумный и единственный из нас пятерых еще державшийся на ногах, произнесла свое обычное: «Не ерунди!»
И в комнате с заледенелыми окнами, с постелями, больше напоминавшими сугробы из одежды и одеял, стало тихо.
Кто-то прошел мимо нашей двери по коридору; протяжное, тягучее шарканье подошв в холодной тишине было отчетливо слышно, казалось, что человек не идет, а его кто-то рывками тянет по полу. Шарканье медленно удалялось, потом отчетливо лязгнул английский замок, это Прасковья Валерианна. Шахмаметьевы накидывали крючок, тоже было слышно.
«Анечка, ты укрой меня чем-нибудь… холодно…»
Мама еще не спала, слышала шаги в коридоре, но бабушкиных слов не услыхала. Не расслышала бы, и если б догадалась поднести ухо к самым губам, сморщенной вороночкой опрокинувшимся во впалый рот. Бабушке показалось, что она говорит, но это был уже голос в том сне, от которого не просыпаются, и холод, подступавший снизу, вкрадчиво, без спешки, был тот холод, от которого ничем не укроешь.
В феврале, в ясный день, в половине девятого утра довольно светло, и хотя окна, заклеенные бумагой крест-накрест, покрытые наледью и отчасти забитые фанерой, пропускали света немного, мама увидела, что Боря и бабушка уже холодные.
Совет бабушки не плакать, представьте себе, мама выполнила и заплакала первый раз после смерти матери, сына и свекрови лишь в конце марта, в Череповце, когда сознание, как можно предположить, уже освободилось от величайшей сосредоточенности выживания и позволило нервам роскошь нормальной реакции на в общем-то довольно печальные события.
Если же говорить строго, в норму все так никогда уже и не вернулось. Мамы не стало в восемьдесят восьмом, через сорок три года после конца войны, а я несколько лет после ее смерти находил в нашей старой квартире, с обилием стенных шкафов, закутков и потаенных мест, кулечки и пакеты из-под сахара, набитые прогорклыми сухарями, нашел какую-то обратившуюся в прах рыбину, замотанную в тряпицу и газеты, натыкался в самых неожиданных местах на пакетики с ванилином, этим душистым флагом благополучной кухни, а также на разнообразные коллекции мандариновых корок. К сожалению, способ хранения этих потаенных жизненных припасов исключал возможность их употребления в пищу. Больше всего по квартире было запрятано мандариновых корок, и понятно почему. Мама рассказывала, как нашла в блокаду на круглом навершии нашей голландской печки мандариновые корки, закинутые туда из озорства в предвоенное новогодье. Значение этой находки мама явно преувеличивала. А к еде у нее на всю жизнь осталось отношение религиозное, и вовсе не потому, что жили туго, напротив, уж что-что, а стол в доме всегда славился красотой посуды, вкусом в сервировке, изобилием и кулинарной изысканностью яств, – слава богу, отец был и лауреатом, и заслуженным, и директором целого проектного института на Мойке, рядом с Невским.
Но, может быть, самой большой маминой странностью и причудой была «Борина» могила, занимавшая особое место среди разного рода всплесков и фантазий, не всегда безобидных, в общем, нормальным людям не очень-то свойственных.
В этих фантазиях, глубоко внутри, было что-то тяжелое, именно не мрачное, а тяжелое.
Ну откуда могла взяться «Борина» могила, это же смех один, если не то что о двух могилах, о двух гробах и то мечтать было нельзя.
Денег кладбищенские в феврале не брали, то есть брали, конечно, но только в добавку к хлебу. Им же мерзлую землю долбить, тоже надо понимать, тем более что морозы в январе стояли страшные.
Так вот, похоронили бабушку и Борю в одном гробу, Борю положили в ноги и, естественно, в одну могилу, и все равно за двойную плату плюс золотой крестик, поскольку на Смоленском кладбище, выползшем к этому времени на правый берег реки Смоленки и широко там разметнувшемся, Борю как прописанного на Васильевском острове, как местного жителя принимать соглашались, а бабушку как прописанную аж в Ленинском районе, на Измайловском проспекте, проспект Красных Командиров в ту пору, у средней дочери Таточки, по суровым законам военного времени принимать отказывались.
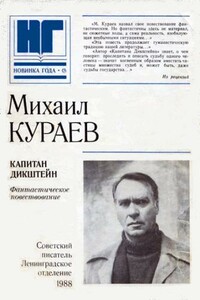
«М. Кураев назвал своё повествование фантастическим. Но фантастичны здесь не материал, не сюжетные ходы, а сама реальность, изобилующая необычными ситуациями…»«Эта повесть продолжает гуманистическую традицию нашей литературы…»«Автор „Капитана Дикштейна“ знает, о чём говорит: проследить и описать судьбу одного человека — значит косвенным образом вместить частицы множества судеб, и может быть, даже судьбы государства…»Из рецензийЛенинградский писатель М. Кураев назвал свое повествование фантастическим.

Кураев Михаил Николаевич родился в 1939 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский театральный институт, с 1961 по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». Автор сценариев 7 кинофильмов. Первая публикация — «Капитан Дикштейн» («Новый мир», 1987, № 9). Автор книг «Ночной дозор» (1990), «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» (1996), «Питерская Атлантида» (1999) и др. Проза М. Кураева переведена на 12 языков и издана во Франции, Италии, США, Германии, Корее и т. д. Живет в Санкт-Петербурге.
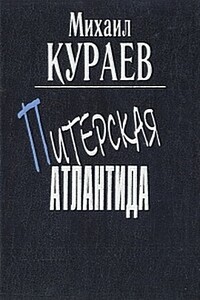
Впервые рассказ опубликован в журнале «Новый Мир» 1995, № 9 под названием «„Встречайте Ленина!“ Из записок Неопехедера С. И.».
![Саамский заговор [историческое повествование]](/storage/book-covers/51/51c215b44fd98b390e65f138b10885bcdd2b77d3.jpg)
1938 год. Директор Мурманского краеведческого музея Алексей Алдымов обвинен в контрреволюционном заговоре: стремлении создать новое фашистское государство, забрав под него у России весь европейский Север — от Кольского полуострова до Урала.
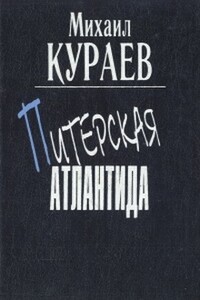
Произведение талантливого русского писателя М. Кураева «Жребий № 241» повествует о судьбе двух любящих людей на фоне событий русско-японской войны. Повесть пронизана размышлениями автора об исторической сути происходившего в России в начале XX века.«Именно в любви, где в основе лежит, быть может, самое эгоистическое чувство, жажда обладания, одухотворенность возвышает до полного торжества над эгоизмом, и в этом утверждение истинно человеческого и исключительно человеческого — способности думать о другом, чувствовать его боль, желать ему блага.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

В русскоязычном интернете "Планом Даллеса" обычно называются два довольно коротких текста.1. Фрагмент приписываемых Даллесу высказываний, англоязычный источник которых нигде не указывается.2. Фрагменты директивы Совета Национальной Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г. Их обычно цитируют по книге Н.Н.Яковлева "ЦРУ против СССР"Первый фрагмент является компоновкой высказываний персонажа из романа "Вечный Зов"Второй фрагмент представляет собой тенденциозно переведенные "фигурные цитаты" из реального документа NSC 20/1.Полюбуйтесь на документ полностью.Взято с www.sakva.ru.
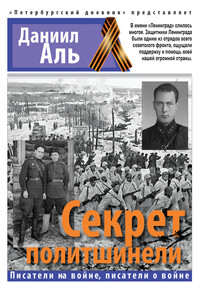
Автор книги – участник Великой Отечественной войны. Книга посвящена бойцам и командирам Ленинградского фронта. Герои книги – студенты ленинградских вузов, 60 тысяч которых сражались в народном ополчении против фашистских захватчиков. В основу книги вошли публиковавшиеся ранее повести из книги «Приказа умирать не было», а также шесть рассказов на ленинградскую фронтовую тему. Книга представит наибольший интерес для молодых людей и будет способствовать воспитанию в них патриотизма и любви к Родине.
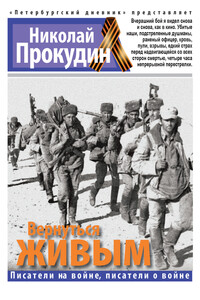
Автора этой книги, храбро воевавшего в Афганистане, два раза представляли к званию Героя Советского Союза. Но он его так и не получил. Наверное, потому, как он сам потом шутливо объяснял, что вместо положенных сапог надевал на боевые операции в горах более удобные кроссовки и плохо проводил политзанятия с солдатами. Однако боевые награды у него есть: два ордена Красной Звезды, медали. «Ярко-красный чемодан, чавкнув, припечатался к бетонке Кабульского аэродрома, – пишет Николай Прокудин. – Это был крепкий немецкий чемодан, огромных, прямо гигантских размеров, который называют «мечта оккупанта».
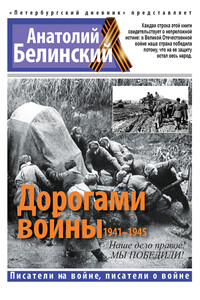
Сборник «Дорогами войны» – это сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. В числе авторов сборника – моряк, тонувший в водах Балтики во время эвакуации советских войск с полуострова Ханко, а затем воевавший на Ладоге, где был тяжело ранен; артиллерист, дважды раненный под Мясным Бором; донской казак, которому досталась нелегкая доля отступать в донских степях летом 1942 года; и, наконец, командир пулеметного взвода зенитчиков, которому довелось в мае 1945 года побывать у стен рейхстага в Берлине.
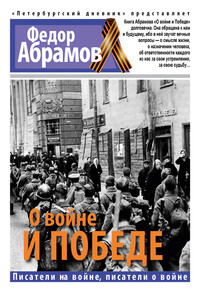
Предлагаемая книга впервые включает все художественные и документальные произведения Федора Абрамова о Великой Отечественной войне и Победе, в том числе ранее не публиковавшиеся материалы из рукописного архива писателя.