Близнецы - [13]
Я читал, примостив книженции на коленях, левой рукой разрисовывал белую гладь бинта, и потом, в дурнеющем сне подростка, пустые вагоны печатных слов сшибались на снежных военных картах и союзники бегали, суетились и палили друг в друга слепым шрифтом.
Сейчас, когда думы мои без дома потеряли былую форму – каша, тюря, гуляш, спагетти из разрозненных языков, я листаю старый в уме календарь, сегодня же отрывной, и нету жалости, сожаленья, отрицания и стыда. Но, если б мне повезло вернуться – пеной розовой, битой птицей или только облаткой облака, – я-то знаю, куда летел бы. В моей жизни не было больше слаще дней-недель ничего не делать, чем лежал я, перебинтован, наблюдая свою семью.
Отчим был образцом привязанности, более сильной, чем тяготенье. Он любил женщин с худым, но жилистым гибким телом, пряно немолодых, с еле заметными трещинками морщин на маленькой, с темными сосками груди, рыжих и загорелых в белых блузках партактива, под которыми мог увидеть пот, испарину, топь любви, – а наша мать не была такой, и он хотел ее вопреки: порокам собственным, ее упрекам, ее коротким рукам в прожилку, тайной страсти к коньячной рюмке. Он носил ей чешские безделушки, он ходил с ней в цирк и в кинематограф, а когда она застужала почки – жарил мелкую гальку в соли и укладывал ей поперек спины. Так, пожалуй, и запишите: подозреваемый рос и вырос в атмосфере – лень подбирать эпитет, в доме вора и безработной, склонной к пьянству на склоне лет.
У него был редкого рода дар предугадывать бешенства всякой власти, волну репрессий, бардак кампаний, потепления климата, снег с дождем.
Над глухой водой его невидимой биографии качались чистые, словно лед, судоремонтный завод – в профкоме, партизанские катакомбы румынских лет и гораздо менее голубые – экспедитор, закупщик, уполномоченный, заместитель начальников по хозчасти. В промежутках шли грабежи квартир, пожары склада с мануфактурой, валюта, купля-продажа краденого и разной мелочи лет на пять. Он не путал частного с государственным, мошенничество с хищением, в тридцатые дважды не ездил в город, где успехами наследил. У него была стопка воспоминаний – больше стопки он пил не часто, – их, бывало, менял местами, тасовал и сдавал помалу: сколько помню, в своих рассказах он нигде во тьме не светился сам.
C годами он стал погодозависим и до крайней степени близорук. Его худому, как старый кисет, лицу не шли никакие очки, и он их упрямо носил в кармане, а читал газеты, прижав стекло напрямую к строчкам, откинув дужки. Если новость была особой – зрение сразу же обострялось, и, слегка сощурившись, он ее изучал повторно, проверяя на слух и шепот. Самыми главными он шуршал раза по три, потом, бывало, кидал газету под стол и снова: повторял сообщение наизусть.
В основном это были сводки, публикации назначений, повышений и переводов – в местной прессе, в центральной реже, – тарабарщина цен, указов, уголовные фельетоны.
Вот, пожалуй, теперь и все. Тертая жизнь до крови неразменного калача не только дугой огибала зону, но и дома он жил по краю, на орбите своей жены, минуя заживо – нас, растущих, полеты в космос, игру на деньги, тестя вечного на проходе, “Биттлз”, купленный ка-вэ-эн. Его по-прежнему звали Шурой, Алексан-Иванычем, дядей
Сашей, он все так же двигался по квартире, вместе с запахом рыбьих дел.
Отчима взяли апрельским утром – без шума, обыска, тихой сапой, в его прощальном, навылет, взгляде слабо дергалась чешуя.
Правда не входит внезапно в дом. Правда всегда из него уходит, и мир, разделенный апрельским утром, становится лживым и настоящим. И мой адвокат повернется к залу, в синей паре пера Бриони, правнук угольщика и прачки, внук военного, сын юриста, – и расскажет зрителям о свободе. Я, надеюсь, не доживу.
В доме стало не просто пусто – как без трупа среди могил. Сори изредка пьяно выла, в основное же время она стирала: вещи отчима, вещи деда, наши штопаные рубашки, не успевавшие высыхать. В доме хлопотно пахло мылом, брат куда-то сбежал, подонок, а я готовил себя к экзаменам, выходя покурить во двор.
Разрыхленная страхом почва, повесть памяти, совы совести – горе так распахало кожу, что вопросы, как просо, сеялись: глубже – некуда, проще – нет. Отчима прятали в предвариловке – варить, видать, собирались позже – легким ветром пронесся слух, что спустя неделю его отправят на серьезный допрос в Одессу, но, что конкретно ему вменяли, не влезало в меня никак: там до затылка лежала кладка из историй ВКП(б), пифагором шитого трикотажа, кофе кончил набег на вену, речь споткнулась об мысль, как некогда турки об мать-софию, повторите еще эспрессо, больше сахара, por favor.
Короче, когда спустя девятнадцать лет я осел в Колумбии белым бваной, то руин запущенной школьной стройки мне вполне хватило бы стать деканом техноколледжа в Медельине. И именно эту громаду знаний, никому не нужных уже, я всегда вспоминаю вместо алексан-иваныча трудных дней. Тем более что, как выяснилось потом, колесо блестящих от спиц событий лишь тогда начинало бег: прикоснись к рифленой его покрышке – сила скорости обожжет.

Жизнь в стране 404 всё больше становится похожей на сюрреалистический кошмар. Марго, неравнодушная активная женщина, наблюдает, как по разным причинам уезжают из страны её родственники и друзья, и пытается найти в прошлом истоки и причины сегодняшних событий. Калейдоскоп наблюдений превратился в этот сборник рассказов, в каждом из которых — целая жизнь.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.
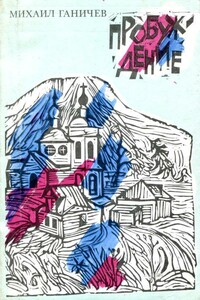
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.