Бледная обезьяна и другие рассказы - [2]
В тот вечер я впервые увидала сэра Филиппа Листера: он обедал с нами и миссис Уайзман в столовой главного крыла.
Нам прислуживал старый Давенпорт, ступавший неслышными шагами. Мы, все пятеро, были словно затеряны в обширной зале с окнами, выходящими на южную лужайку. Повсюду висели (или раньше висели) гобелены, и резные яковетинские столы придавали зале очень мрачную атмосферу; огонь плясал на изукрашенной коваными узорами задней плите камина, под дубовым навесом которого сэр Филипп провел со мной и Эсме десять минут, после чего удалился в свой уединенный уголок дома.
Через два дня он снова обедал с нами, и вновь на следующий день после этого; но в тот день девочка в приступе болтовни мельком заметила, что «дядя Филипп одаряет нас своим обществом с тех пор, как приехала мисс Ньюнс» — и сэр Филипп, как робкая птица, в течение многих дней после этого прятался у себя.
Я сожалела об этом, поскольку он заинтересовал меня. Он держался в высшей степени степенно, достойно и любезно. Был он мужчиной крупным и, если не красивым, то привлекающим взгляд своей оригинальной, я бы сказала, внешностью: по-актерски гладко выбритое лицо, волосы чуть длиннее, чем принято и большие, блестящие совиные глаза с полным скорбных тайн, но в то же время переменчивым и застенчиво-скрытным взглядом. Ему было, как я решила, около сорока пяти лет.
Сэр Филипп был занят написанием «великого труда» в шести томах, посвященного эпохе Древнего царства Египта (четвертая из шести династий египетских царей) и вел такой обособленный образ жизни, что прошло три недели, прежде чем я снова увидела его. Между тем, мы с Эсме ступили на тропу приключений — я называю наши занятия «приключениями», потому что моя ученица и два часа не оставалась одинаковой. У Эсме бывали приступы головной боли; бывали приступы запойного чтения, когда она набрасывалась на книги с жадностью голодного стервятника; бывали у нее припадки лености, оцепенелой сонливости, плача, горестных жалоб, приступы взбалмошности, безумной легкомысленности, жажды — вина. Что же касается ее познаний, то для такого ребенка они были удивительными, и порой она задавала мне вопросы, на которые я не находила ответа.
В одно утро на четвертой неделе, когда она была не в духе, мы прогуливались по парку; в тот раз сэр Филипп, в виде редкого исключения, повстречался нам вне дома. Мы наткнулись на него у обезьяньих вольеров: он стоял, прижавшись лицом к проволочной сетке, и разглядывал гиббона — так пристально, что мы успели подойти совсем близко, а он все не замечал нас. Внезапно увидев нас рядом, он замер в напряженной позе, но тотчас, в своей сдержанной манере, повел себя очень приветливо и несколько минут беседовал со мной о обезьянах и их повадках. Обезьяны носили имена египетских царей: шимпанзе звали Пепи II и Хети, а гиббона Сети I[2]; в сторону гиббона сэр Филипп покачал пальцем, произнося с игривой внушительностью: «Этот парень! этот парень!» — но я не поняла, что он имел в виду.
Вдруг, посреди разговора, он — с некоторой неловкостью отводя глаза — предложил устроить пикник, второй завтрак на свежем воздухе, на что Эсме и я с готовностью согласились. Однако минуты через три он начал тихо бормотать: «Я должен вернуться к работе» — и ушел, к моему изумлению!
После этого он снова исчез из виду на три недели. Мы с Эсме, тем временем, привыкли проводить часы учебы в главном зале, сидя на кушетке в галерее верхнего яруса — галерее, откуда в минувшие века видны были пирующие за столами внизу вассалы; и те дни моей жизни, что я провела в этом месте, окрашены для меня теперь немалой странностью, словно память о несбыточной Утопии. Главный зал был довольно ординарным и пустым — простой потолок, простые белые стены, обшитые до половины высоты дубовыми панелями; вот только освещался он четырнадцатью огромными витражными окнами и, когда солнце светило сквозь них, старый зал превращался в царство грез… Но он ушел от меня в прошлое, как сон, и я больше его не увижу.
На тринадцатой неделе моего пребывания в Харгене — дело было в четверг, после обеда — я получила от сэра Филиппа Листера необычное послание: он писал, что поранил большой палец, и спрашивал, не соглашусь ли я «любезно вести записи под его диктовку». Но что, спрашивала я себя, будет с Эсме? Я не хотела расставаться с девочкой! И все-таки я не могла отказать и потому вошла в тот же день в священный чертог. Он, с рукой на перевязи, мгновенно вскочил с потоком извинений, осыпая меня тысячами пылких и одновременно застенчивых благодарностей; но наконец робость взяла верх, и он внезапно замолчал, оборвав себя. Затем я устроилась за старым аббатским столом, он же на старинном фермерском диване с высокой деревянной спинкой; закрыв глаза, он начал негромко диктовать — что-то о Хуфу, Хефрене[3] и реликвиях «века пирамид», пока мне не стало казаться, что и сам он родом из Древнего Египта, как и я; и были минуты, когда я не сумела бы сказать, в какой эпохе от сотворения мира мы находились. В разгар диктовки он неожиданно, с силой зажмурив глаза, прижал левую ладонь ко лбу, как будто устал или запутался, после вскочил и забормотал: «Спасибо! Спасибо!», протягивая мне руку. Его движения иногда отличались поразительной быстротой и внезапностью; рука, к которой я прикоснулась, была холодна, как снег, и я поспешила покинуть его.
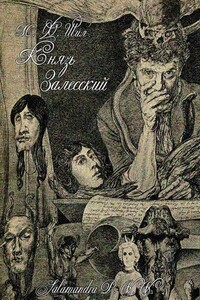
Впервые на русском языке — полный перевод классики детективного жанра, книги М. Ф. Шила «Князь Залесский».Залесский, этот «самый декадентский» литературный детектив, «Шерлок Холмс в доме Эшера», которым восхищался Х. Л. Борхес, проводит свои дни в полуразрушенном аббатстве, в комнате, наполненной реликвиями ушедших веков.Не покидая кушетки, в дурманящем дыму, Залесский — достойный соперник Холмса и Огюста Дюпена — раскрывает таинственные преступления, опираясь на свой громадный интеллект и энциклопедические познания.Но Залесский не просто сыщик-любитель, занятый игрой ума: романтический русский князь, изгнанник и эстет воплощает художника-декадента, каким видел его один из самых заметных авторов викторианской декадентской и фантастической прозы.
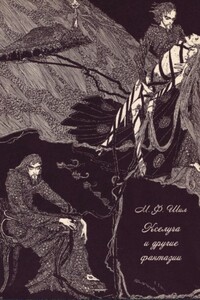
В книгу вошли избранные и давно ставшие классическими рассказы и новеллы Мэтью Фиппса Шила (1865–1947), мастера темной фантазии, великолепного стилиста и одного из самых заметных авторов викторианской и эдвардианской декадентской и фантастической прозы.Британский писатель, литературными творениями которого восхищались X. Л. Борхес и Г. Ф. Лавкрафт, впервые представлен в таком объеме и в рамках одной книги, включающей все считающиеся «каноническими» малые произведения.В издание включен весь материал книги «Князь Залесский» и трехтомного собрания рассказов, выпущенных издательством Salamandra P.V.V.
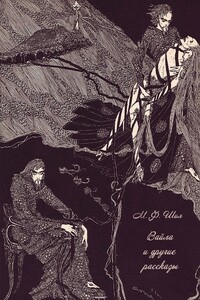
В книгу вошли избранные и давно ставшие классическими рассказы Мэтью Фиппса Шила (1865-1947), мастера темной фантазии, великолепного стилиста и одного из самых заметных авторов викторианской и эдвардианской декадентской и фантастической прозы. Все включенные в книгу произведения писателя, литературными творениями которого восхищался Г. Ф. Лавкрафт, впервые переводятся на русский язык. «Собрание рассказов» М. Ф. Шила продолжает выпущенный издательством Salamandra P.V.V. в 2013 г. первый полный перевод цикла детективных рассказов писателя «Князь Залесский».
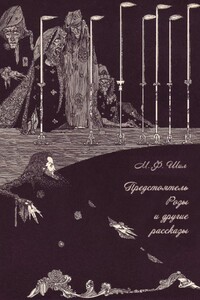
В книгу вошли избранные и давно ставшие классическими рассказы Мэтью Фиппса Шила (1865–1947), мастера темной фантазии, великолепного стилиста и одного из самых заметных авторов викторианской и эдвардианской декадентской и фантастической прозы.Все включенные в книгу произведения писателя, литературными творениями которого восхищался Г. Ф. Лавкрафт, впервые — за исключением новеллы «Печальная участь Саула» — переводятся на русский язык.«Собрание рассказов» М. Ф. Шила продолжает выпущенный издательством Salamandra P.V.V.
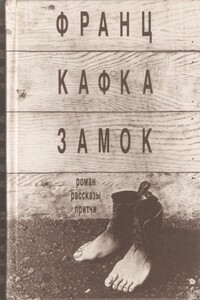
Франц Кафка. Замок. Роман, рассказы, притчи. / Сост., вступ. статья Е. Л. Войскунского. — М.: РИФ, 1991 – 411 с.В сборник одного из крупнейших прозаиков XX века Франца Кафки (1883 — 1924) вошли роман «Замок», рассказы и притчи — из них «Изыскания собаки», «Заботы отца семейства» и «На галерке», а также статья Л. З. Копелева о судьбе творческого наследия писателя впервые публикуются на русском языке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из лучших романов Гюго — «Отверженные». Это громадная эпопея, представляющая целую энциклопедию французской жизни начала XIX века. Сюжет романа чрезвычайно увлекателен, судьбы его героев удивительно связаны между собой неожиданными и таинственными узами. Его основная идея — это путь от зла к добру, моральное совершенствование как средство преобразования жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
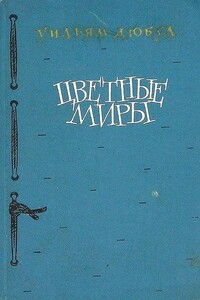
Роман американского писателя Уильяма Дюбуа «Цветные миры» рассказывает о борьбе негритянского народа за расовое равноправие, об этапах становления его гражданского и нравственного самосознания.