Библейский греческий язык в писаниях Ветхого и Нового завета - [11]
8. Характеристическія черты языка Новаго Завѣта.
а) Анализъ составныхъ элементовъ новозавѣтнаго языка показываетъ, что на него нужно смотрѣть, какъ на языкъ живой, радикально преобразующійся подъ „иностраннымъ“ воздѣйствіемъ іудеевъ при проповѣданіи новаго христіанскаго ученія въ мірѣ. По смерти первыхъ проповѣдниковъ такое преобразованіе продолжалось еще нѣкоторое время уже подъ однимъ христіанскимъ вліяніемъ, въ результатѣ чего долженъ былъ явиться собственно, такъ называемый, греческій христіанскій языкъ. При нормальномъ полномъ развитіи всякій языкъ заключаетъ фактически три элемента: литературный языкъ—ораторовъ, историковъ, философовъ и пр.; обычный языкъ, употребляемый людьми хорошаго воспитанія для повседневнаго обращенія; народный языкъ у людей безъ всякой культуры. Всѣ эти три языка могутъ проникнуть и удержаться въ письмени безъ измѣненія. Такъ, и въ нѣкоторыхъ частяхъ Новаго Завѣта замѣтенъ именно литературный языкъ. Посланіе къ Евреямъ соприкасается съ нимъ своимъ періодическимъ и тщательнымъ стилемъ. Посланіе св. Іакова обнаруживаетъ въ стилѣ и колоритѣ поэтическія свойства, которыя справедливо вызываютъ удивленіе. Въ книгѣ Дѣяній—особенно послѣ ІХ-й главы—нѣкоторые разсказы и рѣчи не лишены ни чистоты, ни изящества; когда св. Павелъ говоритъ тамъ грекамъ или царю Агриппѣ,—языкъ сейчасъ же принимаетъ извѣстный литературный отпечатокъ. Впрочемъ, и литературные греческіе писцы могли поправлять нѣкоторыя новозавѣтныя творенія. Эти писцы упоминаются въ Рим. XVI, 2. 1 Кор. XVI, 21. Кол. IV, 28. 2 Ѳессал. III, 18, а въ Дѣян. XXIV, 1-2 іудейскій первосвященникъ для веденія своего дѣла пользуется услугами греческаго ритора Тертулла. Посланіе св. Іакова могло выйти изъ рукъ литературнаго писца. Но,—говоря точно,—новозавѣтные писатели вовсе не литераторы въ родѣ Элія Аристида, Діона Хризостома, Іосифа Флавія и Филона, св. Климента римскаго, св. Іустина и др. Пиша для (миссіонерскаго) обращенія, для всѣхъ, они по необходимости пользовались языкомъ всѣхъ, какой узнали изъ устъ всѣхъ; они старались быть ясными, простыми и легкими, не заботясь о томъ, чтобы писать искусно. Общій тонъ новозавѣтнаго языка—это тонъ языка простого и ходячаго. Но въ этомъ простомъ языкѣ подмѣчается заботливость, которая человѣка средняго класса заставляетъ писать лучше, чѣмъ онъ говоритъ, инстинктивно избѣгая словъ и реченій слишкомъ простонародныхъ, небрежныхъ или неправильныхъ. Съ другой стороны,—вышедши изъ народа и соприкасаясь особенно съ народомъ,—новозавѣтные писатели не могли вполнѣ избѣжать его вліянія; отсюда слова, формы, конструкціи и реченія иногда простонародныя, какія можно назвать вульгаризмами, а иногда еще и нѣкоторая просто народная манера въ стилѣ. Литературнаго грека смущали идеи, образы, строй и колоритъ въ языкѣ Новаго Завѣта, недостаточность искусства новозавѣтныхъ авторовъ въ ихъ писаніяхъ. Даже св. Павелъ долженъ былъ считаться съ этимъ нѣсколько неблагопріятнымъ впечатлѣніемъ, какое производилъ на грека его новый языкъ христіанскаго проповѣдничества (см. 1 Кор. II, 1 и 2 Кop. I, 6). Это неблагопріятное впечатлѣніе испытывали и образованные люди эпохи возрожденія—при сравненіи греческаго классическаго и новозавѣтнаго языковъ. Мнѣніе ихъ резюмируется словами Сомэза (Saumaise, Salmosius) въ его книгѣ De hellenistica (Лейденъ 1643, въ 12°): „каковы сами эти люди (новозавѣтные писатели), таковъ у нихъ и языкъ. Посему языкъ ихъ,—что называется,—ἱδιωτικός, языкъ общеупотребительный и народный. Ибо терминомъ ἰδιῶται называютъ людей изъ народа безъ литературнаго воспитанія, употребляющихъ разговорный народный языкъ, какъ они усвояли его отъ своихъ нянекъ“. Въ XVII и XVIII вѣкахъ страстно препирались о качествѣ и природѣ греческаго Новаго Завѣта. Эти дебаты имѣли ту заслугу, что побуждали къ изученію новозавѣтнаго языка, и въ результатѣ ихъ явились системы пуристовъ, евраистовъ и эмпиристовъ.—1) Пуристы защищали абсолютныя чистоту и корректность греческаго новозавѣтнаго языка, отрицая или замалчивая евраизмы, оправдывая необычайности этого языка дѣйствительно или мнимо аналогичными примѣрами, отыскиваемыми у свѣтскихъ писателей, даже у Гомера. Система эта поддерживалась до половины XVIII в.—2) Евраисты. Система ихъ, бывшая въ почетѣ въ концѣ XVII в., господствовала въ теченіе XVIII столѣтія. Согласно ей, новозавѣтные писатели мыслили по-еврейски или поарамейски и свои мысли переводили на греческій языкъ, почему языкъ ихъ есть собственно еврейскій облеченный въ греческіе звуки и формы.—3) Эмпиристы XVIII в. думали, что новозавѣтные писатели не знали греческаго языка или знали его только слабо и писали на немъ наудачу („какъ придется“). Эмпиристы всюду видѣли „эналлаги“, при чемъ, благодаря этой грамматической фигурѣ, новозавѣтные писатели будто бы получали возможность употреблять одно время вмѣсто другого, одно наклоненіе въ замѣнъ другого, одинъ падежъ на мѣсто другого и пр., не считая эллипсисовъ. Эмпиристы защищали свою систему подъ тѣмъ предлогомъ, яко бы еврейскій языкъ не различалъ ни временъ, ни наклоненій и не имѣлъ синтаксическихъ правилъ. Истинный грамматическій методъ, примѣненный къ греческому языку Новаго Завѣта въ новѣйшее время, осудилъ эти фантазіи. Заблужденіе ученыхъ и эллинистовъ XVI-ХVІІІ столѣтія заключалось въ игнорированіи той истины, что всякій языкъ имѣетъ не только такъ называемую классическую эпоху; что это—живой организмъ, измѣняющійся въ теченіи вѣковъ; что онъ долженъ быть изучаемъ и оцѣниваемъ на каждой отдѣльной и отличительной фазѣ своего развитія, когда подвергается извѣстному характеристическому измѣненію; что всякій вполнѣ развитый языкъ включаетъ языки литературный, общепринятый и народный, изъ коихъ каждый долженъ быть изучаемъ самъ по себѣ и оцѣниваемъ по его собственной значимости—безъ осужденія или устраненія; что всякое ученіе—даже божественное—можетъ быть проповѣдано и записано именно на обычномъ языкѣ этихъ проповѣдниковъ и ихъ слушателей. Впрочемъ,—поскольку языкъ Новаго Завѣта составленъ изъ различныхъ элементовъ и находится въ состояніи преобразованія, неполнаго, измѣнчиваго и обусловливавшагося разными вліяніями,—по всему этому всѣ утвержденія касательно его по необходимости бываютъ относительными и должны соизмѣряться съ каждымъ изъ этихъ вліяній, почему утвержденія исключительныя или абсолютныя обязательно являются ошибочными въ томъ, что въ нихъ есть исключительнаго или абсолютнаго.
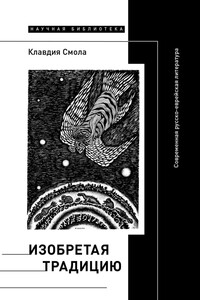
Как литература обращается с еврейской традицией после долгого периода ассимиляции, Холокоста и официального (полу)запрета на еврейство при коммунизме? Процесс «переизобретения традиции» начинается в среде позднесоветского еврейского андерграунда 1960–1970‐х годов и продолжается, как показывает проза 2000–2010‐х, до настоящего момента. Он объясняется тем фактом, что еврейская литература создается для читателя «постгуманной» эпохи, когда знание о еврействе и иудаизме передается и принимается уже не от живых носителей традиции, но из книг, картин, фильмов, музеев и популярной культуры.

Что такое литература русской диаспоры, какой уникальный опыт запечатлен в текстах писателей разных волн эмиграции, и правомерно ли вообще говорить о диаспоре в век интернет-коммуникации? Авторы работ, собранных в этой книге, предлагают взгляд на диаспору как на особую культурную среду, конкурирующую с метрополией. Писатели русского рассеяния сознательно или неосознанно бросают вызов литературному канону и ключевым нарративам культуры XX века, обращаясь к маргинальным или табуированным в русской традиции темам.

Так как же рождаются слова? И как создать такое слово, которое бы обрело свою собственную и, возможно, очень долгую жизнь, чтобы оставить свой след в истории нашего языка? На этот вопрос читатель найдёт ответ, если отправится в настоящее исследовательское путешествие по бескрайнему морю русских слов, которое наглядно покажет, как наши предки разными способами сложения старых слов и их образов создавали новые слова русского языка, древнее и богаче которого нет на земле.
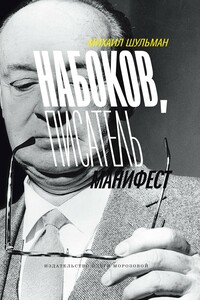
Набоков ставит себе задачу отображения того, что по природе своей не может быть адекватно отражено, «выразить тайны иррационального в рациональных словах». Сам стиль его, необыкновенно подвижный и синтаксически сложный, кажется лишь способом приблизиться к этому неизведанному миру, найти ему словесное соответствие. «Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все». «Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы.

Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По крайней мере, с обывательской точки зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, потому что многое из того, о чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне принятого и самого простого языкового подхода к разделению на «правильное» и «неправильное». Эта книга не для борцов за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что и те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к языку кроется не в искреннем желании бороться с ошибками.

Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.