Без заката - [6]
— Люди, которые нам не компания, — сказал отец, посмотрев на противоположную сторону улицы, где плыл, и сиял, и звучал Самин дом. Но это было сказано, конечно, о господине Адлере и его супруге — Сама отец не знал, как знала его она. И вот в столовой бьет три часа, Настя накидывает на голову платок, закрывающий ее до колен. Мать завязывает Вере капор, холодными нежными пальцами задевая ей лицо.
— Обратно придешь, когда почувствуешь, что надоела. Не позже половины шестого. Я буду стоять у окна и смотреть.
Вера летит вниз, потом по снегу через улицу, в подъезд. Швейцар запирает Веру и Настю в лифт; протяжно вздыхая, лифт поднимается. На площадке — зеленые лопасти искусственных растений. Тишина. Снег начинает валить за окнами — гуще, гуще…
Дверь открыла горничная, но не на горничную смотрела Вера, а на длинноногую особу в розовом платье, в черных локонах, с тонким, треугольным лицом. «И это тебе не компания», — подумала Вера: особе на вид было по крайней мере лет пятнадцать. Она тоже смотрела на Веру, но не здоровалась, и насмешливо поводила бровями. Перед тем, как позвонили, она надевала боты, и теперь, обув одну ногу, захромала в комнаты и бесцеремонно крикнула:
— Самуил! К тебе толстая девочка пришла.
Потом вернулась, равнодушно оделась, перетянулась пояском и, помахивая горностаевой муфтой, ушла одна, как взрослая — нарядная, стройная, холодная.
И тогда раздался топот по коридору. Он кинулся на Веру с какой-то смешной медвежьей прытью, нервно, но все-таки не совсем по-вчерашнему хохоча, потом бросился к Насте, красный, довольный, что и она тут, и потом отступил на шаг, любуясь, как старенькая мадемуазель в очках на крошечном носу, жмет Насте руку и благодарит за вчерашнее. И когда Настя, смутясь до какого-то не во время оброненного смешка, убегает, он еще раз виснет на Вере. Она стоит, как столб, сияя от счастья, не зная, можно ли его обнять? И только когда в детской мадемуазель оставляет их (она заранее решила, что так будет лучше, что в этом «система») и они наконец одни, — Вера стискивает Самины плечи, и они хохоча валятся на диван — огромный, старый, похожий на обошедший три раза вокруг света плашкоут.
Они лежат поперек, свесив четыре довольно схожих ноги, смотрят в потолок и разговаривают.
Она все еще боялась, просыпаясь ночью и нынче утром, что не будет времени все рассказать о себе и услышать о нем: десять лет жизни врозь! Хорошо, что не двадцать, не тридцать. Она боялась, что не успеет околдовать его, как вчера не успела, что время, так медленно приближавшее ее к трем часам — хлынет потом водопадом и придется уйти домой, не досказав, не дослушав. Но как только они оказались одни в большой Саминой классной, и она почувствовала, что он лежит рядом, что вот его рука — с маленькими потными пальцами, вот — лицо, еще не до конца рассмотренное, но такое любимое, с пятном слившихся веснушек на скуле, с черненькой ноздрей, с глазом, смотрящим на нее весело и нежно — как только она почувствовала, что они вместе, она удивилась наплыву радостной уверенности, что все будет именно так, как ей мечталось. Больше всего ее удивляло и делало счастливой то, что огромные, круглые часы над их головами мерно и звучно тикали, никуда не срываясь, что Сам никуда от нее не бежал, что никто не входил и не указывал, что им делать. И все это в душе она называла счастьем, потому что оно длилось.
Сам начал издалека — от первых своих дней, когда он родился таким маленьким что его можно было рассмотреть только в лупу. Потом он вырос в вершок, потом в два вершка, потом в пять. Он рос от земли, как деревцо, только с ногами — он хорошо это помнит, и уверяет, что все люди — и Вера, конечно, тоже — растут от земли. «Не может быть!» — удивляется она.
— Неважно, откуда они выходят, — на всякий случай говорит Сам, намекая на мамин живот, — важно, что выходят они совсем малюсенькими так что их почти не видно, и потом быстро-быстро-быстро, в один месяц, вырастают в аршин, но начинаются все от земли.
— Не может быть! — повторяет Вера, вытаращив глаза, сколько возможно.
Да. И он хорошо помнит, как он был двух вершковым: его купали в полоскательнице, и однажды, гуляя между чашками по столу, он упал в варенье. Папа носил его в кармане фрака в суд, а спал он в ночной туфельке сестры Полины.
Вера глотает в горле хохот и говорит:
— Это, конечно, очень возможно, но наверное сказать этого нельзя.
И тогда Сам вскакивает с дивана и кричит:
— Да ведь это я все выдумал! Да ведь этого быть не может! — и счастливый кидается обратно.
Правда о его памяти состоит в том, что он вообще ничего не помнит, кроме музыки, да еще он может в уме множить цифры, но это доктор ему запретил. В детстве, когда ему было три года, он болел менингитом. Однажды, когда он выздоравливал (это было гулкой весной и вот это самое окошко было открыто), по улице шел полк солдат, тихо шаркая по мостовой; и вдруг сорок трубачей грянули военный марш. Говорят, он закричал так страшно, что у него пошла носом кровь. Потом с ним был обморок. Теперь обмороки бывают все реже.
Когда он рассказывал ей о своей болезни, он не оправдывался во вчерашнем, но и не хвастал загадочностью своей, а просто признавался в чем-то немножко неудобном и для него роковом. Вот и шкапик с лекарствами — собственными, его, — стоит тут же в классной. А это — книги, тоже собственные. А это — скрипка.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
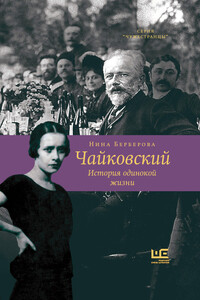
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…
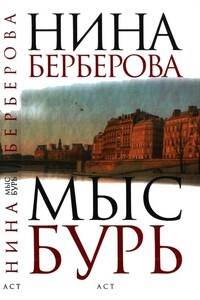
Героини романа Нины Берберовой «Мыс Бурь» — три сестры, девочками вывезенные из России во Францию. Старшая, Даша, добра ко всем и живет в гармонии с миром; средняя, Соня, умна и язвительна, она уверена: гармонии нет и быть не может, а красота давно никому не нужна; младшая, Зай, просто проживает веселую молодость… Вдали от родины, без семейных традиций, без веры, они пытаются устроить свою жизнь в Париже накануне Второй мировой войны.В книгу также вошло эссе «Набоков и его „Лолита“», опубликованное «по горячим следам», почти сразу после издания скандального романа.

Нина Берберова, автор знаменитой автобиографии «Курсив мой», летописец жизни русской эмиграции, и в прозе верна этой теме. Герои этой книги — а чаще героини — оказались в чужой стране как песчинки, влекомые ураганом. И бессловесная аккомпаниаторша известной певицы, и дочь петербургского чиновника, и недавняя гимназистка, и когда-то благополучная жена, а ныне вышивальщица «за 90 сантимов за час», — все они пытаются выстроить дом на бездомье…Рассказы написаны в 30-е — 50-е годы ХХ века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.
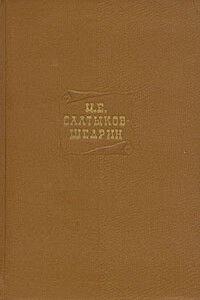
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».
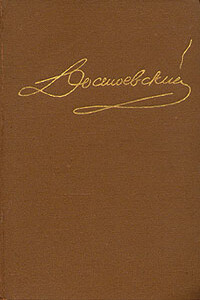
В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.