Без заката - [41]
— Что же осталось? — спросила она и посмотрела туда, где низко, в темнеющем небе, бледная и большая задрожала звезда.
— Обида. И немножко на совести что-то. И неисправные документы.
— Ах, вот что! Так не думайте больше об этом. («Не надо обращать в его сторону нахмуренного лица, даже самых малых душевных сил нельзя тратить на что-то, что не сама любовь», — думала она).
Они пошли по улицам, нарочно делая какие-то петли и круги, чтобы еще подышать этим вечером, который обещал стать звездным и чистым, и у Карелова было такое чувство, будто они сегодня вместе перешагнули через что-то, что еще лежало между ними, — так дружно перешагнули, так крепко держась за руки и так после этого товарищески верно и беззаветно взглянули друг другу в глаза. А то, что было до этого у обоих, уносилось, пропадало, очищалось, со всей разрушительной силой, на которую только способна человеческая память, оно рассыпалось, и будущее вилось над ними, как этот Млечный путь, похожий на обрубок человеческого торса. И внезапно какой-то темный угол озарился в Вериных воспоминаниях: она когда-то не могла припомнить одного евангельского стиха, который брезжил и не давался мыслям, а Евангелия у нее не было. В день выпуска, в то вольнолюбивое время, не зная, что с ним делать, она отдала его Шлейфер (православным ученицам было оно роздано в голубеньком картонном переплете). С тех пор Евангелия у нее не было. Сейчас не весь стих, но смысл его с отчетливой ясностью, с какой-то счастливой болью припомнился ей: Блаженны… Блаженны все: и жаждущие, и кроткие, и нищие, и я, и он, и все. Блаженны… Господи, до чего это хорошо!
— У вас есть дома Евангелие? — спросила она Карелова. — Мне хочется там кое-что посмотреть.
— Евангелие? Кажется, есть. Только очень рваное.
Она подождала у двери его дома, и он снес вниз целый чемодан: книг, писем, белья, старых сапог, — словом, полного своего бродячего хозяйства. И они долго разбирались в нем в ту ночь, и так как у нее в квартире не было каминов, то письма они жгли в плите, не разрывая, не комкая их, но аккуратно кладя по два, по три в огонь. Оба сидели на полу, и в его простодушии было что-то, что пугало и поражало Веру. Выходило так, что она, не раскрывшая своих ящиков и ничего не сжегшая, была скупее его.
— У меня есть одно письмо, — сказала она осторожно. — Я думаю, его лучше сохранить. Там сказано про жизнь, что это… Очень грубо сказано. Отчаянное письмо.
И про тебя там сказано, приблизительно, конечно, но тоже грубо. Про тебя будущего.
— Расскажи мне все.
— Когда-нибудь.
— Нет, сейчас.
— Нет, нет. Только не сейчас. Тебе будет скучно. Это — детская история.
— Сейчас, или я суну руку в плиту.
И как всегда — этому тоже научилась она недавно — чаще, чем когда они были в согласии, в их споре возникал тот стремительный, искажающий их лица ветер, который уводил их к поцелуям.
XXVI
Они ехали — но вовсе не туда, где сверкал в вечной своей красоте тот край земли, о котором когда-то рассказывал ей Сам и куда ей так долго хотелось уехать, — они ехали в дачном поезде за город, в одно из летних воскресений.
Поезд шел подрагивая, выбираясь из рельсовой паутины, а рядом с ним, то слегка отставая, то нагоняя его, тем же путем шел курьерской, дальний, еще не разогнавший свою скорость. И Вера видела, как в спальном вагоне первого класса, аккуратный старичок, сам улыбаясь себе в белоснежную бороду, искал что-то среди серебряных пробок раскрытого несессера; как рядом с ним, в следующем отделении, молодая женщина, сидя по-турецки, курила и записывала что-то в книжку, наморщив лоб; как еще дальше господин с дамой, шатаясь и держась друг за друга, распутывали какой-то шнурок. Потом курьерской пошел быстрые, мелькнул второй класс, где тесно сидели люди, потом — третий, где склабился в окне матрос, и вдруг произошло какое-то торможение (а дачный все шел себе и шел) и замелькало все в обратном порядке: господин с дамой распутали шнурок, и теперь она его сматывала, женщина, сидящая по-турецки, клала в рот круглую конфету, улыбающийся сам себе старик что-то капал в ухо. Шатнулся потный повар в окне вагона-ресторана, озаренное красным светом полыхнуло лицо машиниста, и вдруг — свист, и курьерский дернулся куда-то — и опять побежали одно за другим те же окна, те же лица, и вдруг все исчезло. Открылась даль.
— Хорошо бы и нам с тобою так, — сказал Карелов, мотнув головой в сторону курьерского.
Вера взглянула на него.
— Совершенно разучилась завидовать и желать. Ну, не все ли равно: куда и как?
Он отвел глаза, словно она слепила его словами. Когда он снова обратился в ее сторону, она не смотрела на него и чистила апельсин, и улыбалась сама себе. Она думала о том, что в эти недели она не то, чтобы отупела, а стала как-то менее чувствительна к тому, что вообще делалось в мире вокруг нее, и к самому миру, а улыбалась она потому, что знала, что это пройдет, а то, что за этим придет, будет, наверное, еще лучше.
Он не старался угадать, чему она улыбается. Коли улыбка — значит, есть чему. Ее улыбка все меняла для него, и Вера с щедростью обращала к нему эту улыбку. Но он был озабочен сейчас тем, как бы остатками здравого смысла взглянуть на нее со стороны, увидеть ее такой, какой видели ее соседи по купе, кондуктор. Он искал в ее лице, в ней самой, того, что раньше в женщинах бывало ему неприятно: суетливости, черствости, какой-то — мгновениями — скучной непроницаемости. Искал и не находил. Все в Вере казалось ему прелестным. А главное, чего он до сих пор не мог себе представить, было её, с вечной для него новизной, равновесие — ее «головокружительное равновесие», как он определял про себя, словно покои и постоянство счастья, которые исходили от нее, уравновешивались страстью, бесстыдством и исступлением, которые он в ней знал; словно вся она, со своим здоровым, верным телом и любящей душой уравновешивала целый мир злобы, болезней и тоски.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
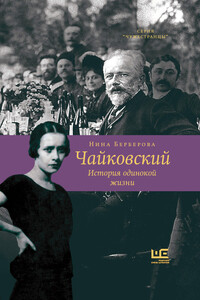
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…
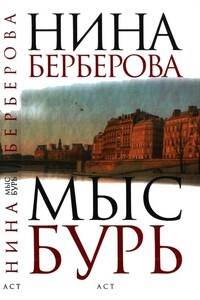
Героини романа Нины Берберовой «Мыс Бурь» — три сестры, девочками вывезенные из России во Францию. Старшая, Даша, добра ко всем и живет в гармонии с миром; средняя, Соня, умна и язвительна, она уверена: гармонии нет и быть не может, а красота давно никому не нужна; младшая, Зай, просто проживает веселую молодость… Вдали от родины, без семейных традиций, без веры, они пытаются устроить свою жизнь в Париже накануне Второй мировой войны.В книгу также вошло эссе «Набоков и его „Лолита“», опубликованное «по горячим следам», почти сразу после издания скандального романа.

Нина Берберова, автор знаменитой автобиографии «Курсив мой», летописец жизни русской эмиграции, и в прозе верна этой теме. Герои этой книги — а чаще героини — оказались в чужой стране как песчинки, влекомые ураганом. И бессловесная аккомпаниаторша известной певицы, и дочь петербургского чиновника, и недавняя гимназистка, и когда-то благополучная жена, а ныне вышивальщица «за 90 сантимов за час», — все они пытаются выстроить дом на бездомье…Рассказы написаны в 30-е — 50-е годы ХХ века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».