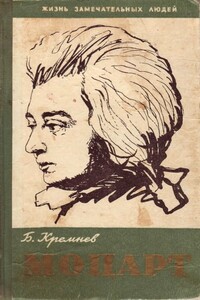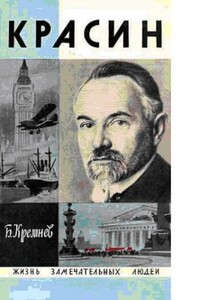– Генерала от музыки, – ответил ему простой человек с венской улицы.
Хоронить Бетховена вышла вся Вена. За гробом шел народ и, смешавшись с ним, лучшие писатели, музыканты, артисты столицы, цвет Австрии – Грильпарцер, Раймунд, Ленау, Шуберт, Зейфрид, Умлауф, Гуммель, Аншютц.
В многотысячной толпе, провожавшей Бетховена в последний путь, не было только императора, эрцгерцогов или кого-либо еще из членов августейшей фамилии. Двор не мог простить и мертвому Бетховену его популярности.
Когда после долгих часов пути процессия достигла загородного, затерянного в полях и лугах Верингского кладбища, толпа замерла перед оградой. Люди, скорбно притихнув, слушали. А их обнаженные головы пригревало весеннее солнце, стоявшее в радостно-голубых небесах.
Люди слушали речь, произносимую над гробом Бетховена. Ее сочинил Грильпарцер, а читал Аншютц – прославленный и любимый актер Вены. Власти запретили произносить речь на могиле, поэтому он выступал у входа на кладбище.
«Кто может считать себя равным ему? – гремел зычный голос Аншютца, и люди, как самой волнующей проповеди, внимали звонким и проникновенным словам. – Подобно тому как кашалот стремительно переплывает моря, так и Бетховен облетает владения своего искусства. От воркования голубки до раскатов Грома, от изощреннейшей комбинации чисто техническими средствами до края пропасти, где на смену мастерству художника приходит безудержный каприз разбушевавшихся стихийных сил, – всюду он проник, всем овладел. Тот, кто придет после Бетховена, не сможет следовать по его пути, он должен будет начинать сызнова, ибо его предшественник, Бетховен, останавливается лишь там, где предел искусства».
С той поры прошло полтора века. Но время, всевластное над людьми, оказалось подвластным Бетховену. Он подчинил жестокое и скупое на благости время, и оно оказалось бессильным перед ним.
Больше того: он принудил время покорно служить ему. И сто пятьдесят лет спустя Бетховена играют и чтят в тысячу крат больше, чем при его жизни.
Бетховен покорил не только время, он покорил и пространство. Еще при жизни он легко и свободно перешагнул границы своей страны. А сейчас нет уголка на земном шаре, где не звучала бы его музыка. И нет образованного человека, который бы не знал Бетховена и не любил его.
В свое время Бетховен мечтал о тех днях, когда «музыка станет национальным достоянием». В наше время его музыка стала достоянием интернациональным. И это не поэтическая метафора, а сухой и непреложный факт.
России Бетховен полюбился издавна. Именно в Петербурге 6 апреля 1824 года, за год до того, как венцы услышали Торжественную мессу в отрывках, она была впервые в истории исполнена целиком. Еще с тридцатых годов прошлого столетия бетховенские симфонии стали неотъемлемой частью репертуара русских оркестров. Бетховену посвятили восторженные, гениальные по своей глубине и проникновенности статьи такие славные умы музыкальной России, как В. В. Стасов и А. Н. Серов. Его творчество с благоговением изучали и перед ним преклонялись такие титаны русской музыки, как Глинка и Чайковский. Его произведения вдохновенно исполняли такие замечательные музыканты, как Балакирев и Рубинштейн.
Но воистину грандиозного размаха любовь к Бетховену достигла в наше, советское время.
Величайшую радость Бетховен испытывал тогда, когда радовал других. А наивысшим счастьем считал – доставлять счастье ближним. «С детства моей самой большой радостью и удовольствием была возможность что-либо делать для других», – признается он в своем письме. Бетховен потому так и любил музыку, что видел в ней «столь необходимое для счастья народов искусство».
И как благородный завет художникам всех времен и народов звучат его чудесные слова, обращенные к маленькому Листу, посетившему его на самой заре своей артистической деятельности; они, эти крылатые слова, – девиз всей жизни и всего творчества самого Бетховена:
– Нет ничего прекраснее, чем приносить людям счастье и радость!
Было это в декабре тысяча девятьсот сорок четвертого года. В преддверии благословенного года сорок пятого. Еще ярились морозы, жгучие и безжалостные, особенно в горах Словакии, где мы тогда воевали.
Но в воздухе уже веяло весной – благостной весной Победы.
Ее приближение чувствовалось во всем. И в том, что все чаще играла «катюша»; ее могучий голос, подобно весеннему грому, грохотал в низком небе, и раскатистое горное эхо радостно подхватывало его. И в том, что все реже раздавался немыслимо пронзительный скрежет «ванюши», шестиствольного немецкого миномета, прозванного нашими солдатами также «ишаком». И в том, что пленные немцы, или, как в ту пору их называли, «фрицы», с каждым днем выглядели все ободраннее, а наши «младшие» и «старшие» лейтенанты щеголяли в шинелях, перешитых доморощенными полковыми или батальонными портными на офицерский манер, а вместо шапок-ушанок носили лихие кубанки. И в том, что солдаты все чаще поговаривали о доме, и не так, как говорят о чем-то очень далеком, а как о близком и достижимом, что вот-вот должно явиться в твою жизнь и заполнить ее всю, до отказа.
Но война еще шла. Фронт жил своей огромной, беспощадной, несмолкаемой жизнью.