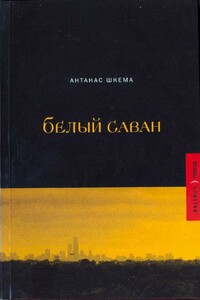Белый саван - [53]
Порядок. Мои глаза — это бинокль, в который все видишь наоборот. Мир отделяется и делается четче. Я могу заставить камень петь о весне. Могу приказать тюльпанам исполнить григорианский хорал. И пускай на крыше небоскреба в лунном свете стоит Антанас и крестится, потому что два смиренных домовых, оборванных и улыбающихся, уже ведут к нему литовскую утопленницу. «Святой Антанас, подари нам обоим штанишки, ведь ты же святой». И пускай в таверне у Стевенса Стевенсона соберутся все мои друзья детства: девочка, что велела мне помочиться в деревянную плошку (мы играли в гостей, которые пьют чай), паренек (с ним мы лупили палкой по телеграфным столбам), все мои возлюбленные — их приведут три старшие жены из моего гарема: Йоне, Женя, Эляна.
И Христос. Мы встретим Его с почестями. Падем ниц и будем целовать край Его плаща. И Стевенс всем нальет самого дорогого шотландского виски, зная, что бутылку никогда не опорожнить. И мы споем псалом. О детстве, о жизни, о смерти. И Христос призовет своего конкурента Будду. «Очень хорошо, — скажет Будда. — Я — свободный и просвещенный дух. А Ты — Сын Божий. И я выпью с Тобой, хотя за это меня станут мучить кошмары в нирване». И Христос ладонью коснется лба Будды и скажет: «Нет, они не будут мучить тебя. Пребывай в покое, Будда». И Христос станет служить Будде, ибо тот заговорил раньше.
Порядок. Я вместил в себя свою вселенную. Прошлое, настоящее, будущее. Но я не сверхчеловек. Я — человек, запеленутый в грязный ситцевый фартук. Человечек, который готов к исповеди. И я не стану обращать внимание на запатентованную реальность. Не буду бояться auto da fe. Пускай ведут меня босого, в желтой рубахе, с крестом, пускай повесят мне на шею тяжелые вериги, а в руку сунут желтую свечу. Я верю: инквизиция вечности сжалится надо мной, и ее приговор будет иной, нежели тот, что вынесли Джордано Бруно:
«Умертвить милосердно. Без пролития крови. Сжечь живым».
Порядок.
Болота тоже могут поражать своей красотой. Когда утреннее солнце раскачивается на гребне ельника. Когда из мелких болотец в глубокое небо летят заревые стрелы, и эти стрелы мечут болотные призраки, болотные духи, затеявшие веселье. Когда по краям болот, на кочках, машут головками астенические ромашки, бедные больные девочки, которые поправляются весной. Когда пестрота рябых крыльев у чибисов заставляет тебя вскочить на подоконник, усесться там, болтая ногами, и посвистывать. Когда маневрирующий паровоз аукает, как ребенок, играющий в прятки, и колокола костела висят тут же на телеграфных столбах и гудят, гудят, невидимые. Их удары сотрясают зеленеющую землю, и земля исходит испарениями.
Гаршве вспомнилась та радость, которую он испытал, когда ночной столик родителей превратил в алтарь. Он придвинул столик к окну, накрыл его чистой скатертью, на ней пестрели лилии и тюльпаны, вышитые матерью. Потом принес белую свечу в глиняном подсвечнике. Облачился в летний отцовский пыльник, на шею повесил полотенце с красной бахромой. И малыш Гаршва затеплил свечку. Тусклое пламя трепетало в залитой солнечным светом комнате. Он воздел руки, совсем как настоящий ксендз у настоящего алтаря, вскинув голову. Христос был тут же, рядом, невидимый, как и колокола. Даже несколько Христосов находилось рядом с ним в комнате. Рябые крылья чибисов, удары колоколов, паровозный гудок, ромашки на кочках, тусклое пламя свечи.
— произнес малыш Гаршва.
— отозвалось эхо.
Его молитвенником была толстая поваренная книга «Советы повару». Он повторял заученные наизусть латинские слова, чужие и оттого таинственные и прекрасные.
И когда малышу Гаршве не хватило других латинских слов, он включил в молитву то, что пришло на ум.
пропел он. Но молитвы малышу Гаршве показалось мало. Он сбросил отцовский плащ, задул свечу, обмотал горло полотенцем, еще выше задрал голову и затянул во весь голос:
Паланга. Тихий дачный городок. Широкое побережье, желтый песок, по этому побережью бродил поэт Майронис. Кривые сосенки, дальние родственницы туи, по коре стекала желтая смола, и в ней навечно застывали угодившие в ловушку насекомые. Неподвижная речушка Ронже. Деревянные виллы и домики, окрещенные виллами. Посыпанные гравием дорожки. Местный Лурд из искусственных скал с вездесущими фотографами. Курзал, оставшийся еще с царских времен. По вечерам там танцевали, здесь же выбирали королей сезона, зачастую какого-нибудь актера, учителя танцев или борца. Прибрежный ресторан, ступеньки которого лизали волны, оставляя пену, и где за столиками сидели, подперев подбородок, писатели, художники, парочки и просто одинокие посетители. Уже порядком обшарпанный дворец графов Тышкевичей, гордый своей стариной, пунцовыми розами и статуей Христа, благословляющего эти розы. Деревянная эстрада в сосновом лесу, где военный духовой оркестр играл роpouri из «Травиаты», «Персидскую ярмарку» или необычайно воинственные марши. Компоновкой репертуара занимался краснощекий, с округлым пузцом дирижер, любивший шутки, женщин и водку. Часовня на горе Бируте; несколько сосен на Шведской горке. Знакомые до мелочей места; каждое лето все то же самое, и каждое лето одни и те же отдыхающие, истосковавшись по заветным уголкам, прибывают сюда. И солнце тихими вечерами разрезает ленту горизонта, окрашивая все вокруг кровью, как и должно быть в тихие закатные вечера. И лунная дорожка, протянувшаяся ночью туда, за море, в страну, где когда-то жили желтоволосые и бородатые викинги. И приглушенный ропот моря, и его грозный шум. И, само собой разумеется, звезды, они те же самые, и ими подолгу любуются обнявшиеся парочки. И песок. На берегу, на дорожках. Его мы вытряхиваем из нашей обуви, смываем с тела, смахиваем, сухой и влажный, желтый и рыжий палангский песок. Миллиарды песчинок, их так хотелось увезти с собой в город, чтобы не забыть этот приветный дачный уголок на севере Европы. Чтобы не забыть Палангу. И — мост.

Всемирная спиртолитическая: рассказ о том, как не должно быть. Правительство трезвости и реформ объявляет беспощадную борьбу с пьянством и наркоманией. Озабоченные алкогольной деградацией населения страны реформаторы объявляют Сухой закон. Повсеместно закрываются ликероводочные заводы, винно-водочные магазины и питейные заведения. Введен налог на пьянку. Пьяниц и наркоманов не берут на работу, поражают в избирательных правах. За коллективные распития в общественных местах людей приговаривают к длительным срокам заключения в ЛТП, высшей мере наказания — принудительной кодировке.

Роман К. Кулиева в двух частях о жизни и творчестве классика туркменской литературы, философа и мыслителя-гуманиста Махтумкули. Автор, опираясь на фактический материал и труды великого поэта, сумел, глубоко проанализировав, довести до читателя мысли и чаяния, процесс творческого и гражданственного становления Махтумкули.
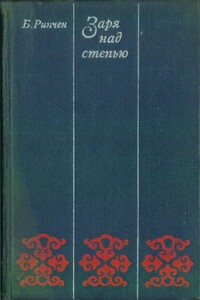
Действие этого многопланового романа охватывает период с конца XIX века и до сороковых годов нашего столетня, оно выходит за пределы дореволюционной Монголии и переносится то в Тибет, то в Китай, то в Россию. В центре романа жизнь арата Ширчина, прошедшего долгий и трудный путь от сироты батрака до лучшего скотовода страны.
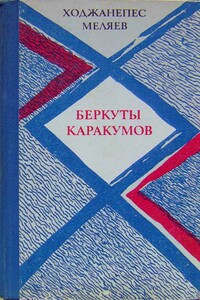
В сборник известного туркменского писателя Ходжанепеса Меляева вошли два романа и повести. В романе «Лицо мужчины» повествуется о героических годах Великой Отечественной войны, трудовых буднях далекого аула, строительстве Каракумского канала. В романе «Беркуты Каракумов» дается широкая панорама современных преобразований в Туркмении. В повестях рассматриваются вопросы борьбы с моральными пережитками прошлого за формирование характера советского человека.

Эту книгу о детстве Вениамин ДОДИН написал в 1951-1952 гг. в срубленном им зимовье у тихой таёжной речки Ишимба, «навечно» сосланный в Енисейскую тайгу после многих лет каторги. Когда обрёл наконец величайшее счастье спокойной счастливой жизни вдвоём со своим четвероногим другом Волчиною. В книге он рассказал о кратеньком младенчестве с родителями, братом и добрыми людьми, о тюремном детстве и о жалком существовании в нём. Об издевательствах взрослых и вовсе не детских бедах казалось бы благополучного Латышского Детдома.

К чему может привести слава и успех, если им неправильно распорядиться? Что нас ждет за очередным поворотом? У главного героя этой книги все было хорошо, он - талантливый скрипач и композитор, хорошая семья, дом - полная чаша. Неужели всё это можно потерять, отдать за стакан водки? И есть ли способ уйти с этого страшного пути? Книга многопланова. Она освещает многие вопросы, но большее место отведено в романе борьбе медицины c алкоголизмом.