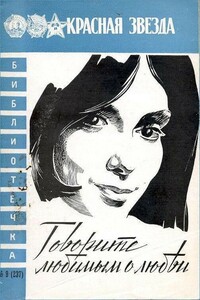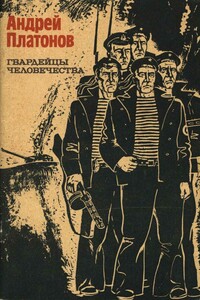Он выполнил свое обещание, хотя, если быть несколько точнее, инициатива разговора с Синицыным принадлежала не ему, Творогову, а самому Женьке. Это Женька забежал утром к нему в двадцать седьмую в сунул пачку исписанных крупным корявым почерком листов: «Окинь своим проницательным взглядом и скажи, что ты думаешь».
Это были те самые тезисы, о которых говорила вчера Валечка Тараненко.
Творогов взял их с тем нетерпеливым любопытством и опасением одновременно, с каким заглядывает человек, идущий на прием к врачу, в свою медицинскую карточку, в свою историю болезни. И хотя почти все, что было написано здесь, Творогов уже не раз, пусть отрывочно, сумбурно, но слышал от Синицына, все равно теперь, когда он вдруг ясно представил, что это уже не просто разглагольствования во время лабораторных чаепитий, не просто язвительные филиппики в адрес Краснопевцева, которыми Синицын так любил дразнить Валечку Тараненко, не просто радужные планы перестройки лаборатории, а то и всего института, которые Женька увлеченно рисовал перед своими единомышленниками, а тезисы речи, которая должна быть произнесена на ученом совете, запротоколирована, занесена в стенограмму, которая должна стать документом, Творогов, может быть, первый раз по-настоящему ощутил серьезность намерений Синицына, ощутил беспокойство и тревогу.
На что рассчитывал Синицын? Или он думает, что достаточно произнести слова, с которых начинаются его тезисы: «Я все больше убеждаюсь: то, чем занимается наша лаборатория, а отчасти и весь институт, — это вчерашний день биологии, это скорее имитация серьезной науки, чем сама наука», и на ученом совете загремят аплодисменты, и все бросятся исправлять ошибки и упущения, указанные Синицыным? На это он рассчитывает?
Валя Тараненко была права: в своих тезисах Синицын собрал все, что вызывало его недовольство и раздражение, все, что требовало, по его мнению, перестройки и ломки — от принципиальных вопросов до мелочей, до частностей. Какая-то неистовость, какая-то отчаянная безоглядность, стремление разом сжечь все мосты, не оставить себе путей отступления ощущалась в этих торопливо набросанных тезисах. Он не собирался щадить никого из своих противников — мог ли он рассчитывать после этого, что пощадят его?..
Творогов читал эти тезисы со сложным чувством, в котором смешивались одобрение и протест, раздражение против Синицына и восхищение им. И в то же время он уже понимал: что бы он, Творогов, ни говорил теперь Женьке, какие бы доводы ни приводил, его слова, его мнение не остановят Синицына — реакция уже началась, процесс уже идет, пока еще невидимый, скрытый, но рано или поздно он неизбежно вырвется наружу, это только дело времени.
Творогов сидел за своим рабочим столом, погруженный в чтение, но при этом, казалось, даже спиной чувствовал, как меняется, словно бы насыщаясь предгрозовым электричеством, атмосфера в лаборатории. То и дело хлопала дверь, Вадим Рабинович убегал куда-то и появлялся снова, приходили люди из других лабораторий, озабоченные, деловитые, торопливые, негромко переговаривались друг с другом. «Ученый совет», «Синицын», «Краснопевцев» — эти слова так и носились в воздухе.
«Как дети, — неожиданно подумал Творогов, — совсем как дети, играющие в войну…»
Из института в тот день он возвращался вместе с Синицыным.
— Ну как? — спросил Синицын. — Прочел? Что ты скажешь?
Он был возбужден, заметно нервничал, хотя и старался не показывать этого.
— Видишь ли… — начал Творогов. — В том, что ты пишешь, много справедливого, но есть и перехлесты, и излишняя резкость, и мельчишь ты порой. И потом… нельзя рассчитывать изменить все одним махом. Во многом ты прав, я не спорю, но на твоем месте я бы не стал торопиться, я бы еще подумал. Во всяком случае, сейчас выступать в подобном духе, по-моему, не стоит…
Синицын передернул плечами.
— Нет, — сказал он. — Я не о том тебя спрашиваю, выступать мне или не выступать, — это дело уже решенное. Ты мне вот что скажи: ты поддержишь меня? Мне нужна поддержка.
Женька уже был охвачен азартом борьбы, одержим этой борьбой, он был весь во власти предстоящих сражений, и Творогову даже показалось: он ясно ощутил сейчас, физически ощутил ту нервную энергию, которая, подобно электромагнитному полю, окружала в эти минуты Синицына, исходила от него.
— Я на тебя рассчитываю, — сказал он, прежде чем Творогов успел что-либо ответить.
— Не знаю, — сказал Творогов. — Мне трудно вот так, сразу. Мне нужно подумать.
— Подумать — да, или подумать — нет? — настойчиво спросил Синицын.
— Скорее всего — нет, — сказал Творогов после паузы. Ему пришлось сделать усилие над собой, чтобы произнести эту фразу. Ему всегда приходилось преодолевать внутреннее сопротивление, некий запретный барьер, преодолевать чувство тягостной неловкости, когда предстояло сказать не то, чего ждал от него собеседник.
— Нет? Значит, нет? — с неожиданной веселостью сказал Синицын. — Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни, гром ударов их пугает!
Если он рассчитывал таким образом уязвить Творогова, то напрасно: на Творогова такие штучки никогда не действовали, мог бы Женька это усвоить.