Белые птицы вдали - [112]
— Я сам… Что еще… Я сам справлюсь.
Отчужденный, полный мальчишеской обиды взгляд сквозь заплесканные брызгами, немыслимо как уцелевшие очки встретил Бородина, когда, круто развернув лодку и табаня, он подходил к Игорю кормой. Ружье висело у парня на шее, в одной руке он удерживал и лодочную цепь, и безвольно, зыбко плавающую мертвую птицу, а другой пытался грести, вряд ли понимая несоразмерность своих усилий со страшной тяжестью лодки, почти вровень с бортами залитой водой. Медленно кружа, лодка влекла Игоря по течению, боковым зрением Бородин чувствовал, как плыл назад высокий, глинисто обнаженный береговой яр с еле видной избой Гурьяна. Было самое устье Чауса, тут он раздал берега и лавинно шел в Обь; простирающаяся впереди неоглядная мерцающая ширь казалась гибельно близкой этой своей огромностью.
— Бросайте лодку! Залезайте ко мне, бросайте лодку, мы возьмем ее на буксир! Бросайте!
— Ах ты, сопляк никудышный! — Из-за спины Бородина осторожно, ровно наплывала плоско срезанным лбом корма лодки Жаркова, и он добродушно поругивал Игоря: — Как же это тебя угораздило? Небось гуся доставал и опрокинулся. Ну, ясно. Это дело нехитрое, сам тонул не однажды… Давай-ка мне эту хреновину.
С ласковой руганью он взял из руки Игоря цепь.
— Оп! — Жарков подхватил Игоря под мышки, помогая ему забраться в лодку Бородина.
— Зачем вы? — вяло протестовал Игорь. — Я бы сам…
Слова одышливо, искаженно выходили из его сведенного холодом рта, лицо болезненно кривилось. Игорь с трудом перекинул через истертый веслами борт злосчастную добычу, напряженно дрожа, розовыми ладонями уперся о борт, выкинулся из воды, перевалился в лодку, с брезентовой куртки хлынули струи, и Бородина передернуло от ощущения окоченелости, которая, должно быть, сковывала Игоря.
— Порядок в танковых войсках, — сразу потвердел Жарков, убедившись, что дело сделано. Он захлестнул цепь затонувшей лодки на скобе своей кормы, удобно уселся на гребную скамью, поплевал на ладони, щурясь на Игоря с необидной иронией.
— Загудел бы в Обь-то, орел!
— Не загудел бы, — неохотно возражал Игорь.
— Ну-ну! Жизнь, она научит… — Жарков взялся за гладкие бобышки весел, приказал Бородину: — Вы с хлопцем за ружьями на косу, я потяну лодку! Быстро!
— Николай Иванович, зачем бросать охоту. Мы теперь одни справимся, а ты еще постреляешь. — Бородин испытывал какую-то неловкость за все, что произошло, будто видел и свою вину и хотел загладить ее.
Жарков изучающе посмотрел на Бородина, улыбнулся незлобиво, давая понять, что все понимает и присоединяется к нему, вернее, к ним с Игорем.
— Какая охота! — Он снова метнул короткий взгляд на Игоря, качнул головой, осуждая и в то же время понимая его мальчишескую ершистость. — Быстро, быстро к Гурьяну, главное дело — в сухое переодеться.
Игорь сидел, безучастливо нахохлившись.
К яру причалили почти одновременно. Пока Бородин с Игорем обежали скрадки, забрали все, что оставалось, Николай Иванович наперерез течению пробился к берегу, опрокинул лодку Игоря и, уже пустую, идя под самой кручей, подогнал к месту. Стена яра дышала угрюмой стылой сыростью. Вверх, пересекая сизые, иссиня-черные, лилово-бурые слои глины, уходила глубокая тропа с истертыми ступенями. Отсюда не было видно ни землянки, ни избы Гурьяна, и устоявшийся здесь неприютный сумрак, с его могильным глинистым дыханием, подталкивал всех троих скорее выбраться на свет и простор. Навьючась веслами, ружьями, связками уток, тяжело стали подниматься по тропе.
Игорь шел первым и только показался наверху, как вместе с плеснувшим в глаза белым солнцем совсем рядом дурашливо затутукало:
— Ту-ту-ту… ту-ту-ту-ту…
Приятели Игоря, математик с женой, застыв в иронической торжественности, трубно вытянув губы и надувая щеки, наигрывали туш. Они были по-утреннему свежи в своей голубой синтетике, лица розово светились независимым от того, что творится здесь, на Чаусе, весельем.
— Ту-ту-ту… ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту…
Видно, ничто не поразило их в остром, посиневшем, натянуто улыбающемся лице Игоря. Мужчина подошел к Игорю, глядя не на него, а на перевешенную через плечо Игоря гусиную тушу.
— О! — Он бесцеремонно взял птицу, висевшую на одной связке с утками, и, отстраняя тянущуюся за его рукой жену, приподнял, взвесил Игорев трофей: — О! Ого! — И этот жест полоснул Бородина.
— Понюхайте, понюхайте…
— Вы что-то сказали? — кольнул его математик навостренными ножичками глаз.
Бородин отвернулся, сетуя на себя.
— Только то, что вы слышали.
Математик пожал плечами. И вдруг его глаза расширились.
— Марфа, Марфа, ты посмотри только, его хоть выжимай, нашего Тартарена!
Девица дотронулась до Игоря пальцем, отдернулась:
— Ужас! Как ты оказался в воде?
Они снова не заметили, как напряжено было побледневшее, за стеклами очков, лицо Игоря.
— Как, как… Так и оказался.
— Надо же, ради этого дерьма… — Математик потряс обвисшими птицами. — Марфа, ты понимаешь что-нибудь?
— Пошли вы к черту, — вдруг проговорил Игорь непослушными губами.
Воцарилась продолжительная пауза, только покряхтывал Жарков — будто у него что-то засело в горле.
— Ты отдаешь себе отчет? — вымолвил наконец математик, с какой-то дальней угрозой глядя на Игоря. Он выпустил птиц, они обмякло плюхнулись на забитую снежком траву.

В новую книгу прозы М. Горбунова вошли повести и рассказы о войне, о немеркнущем ратном подвиге, в котором слились воедино и солдатская доблесть, и женская любовь.Творчество М. Горбунова — самобытное исследование глубинной связи поколений, истоков мужества нынешних защитников Родины. Включенная в сборник повесть «Я становлюсь смертью» возрождает перед читателем трагедию Хиросимы в ее политических, военных, моральных аспектах.Сборник рассчитан на массового читателя.
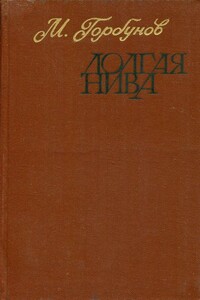
Роман «Долгая нива», повесть «Амба» и рассказ «Это кричали чайки» составили книгу прозы Михаила Горбунова. Действие романа развертывается на Украине и охватывает время от предвоенных до первых военных лет; в повести и рассказе поставлены проблемы, в какой мере минувшая война определяет жизненные позиции сегодняшнего поколения советских людей.Живая связь прошлого и настоящего — характерная особенность прозы М. Горбунова.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.