Беловодье - [62]
Соловко готовится вздремнуть. Привязанный к столбику, он расставляет ноги, шумно встряхивается и широко зевает свободным от железа ртом.
За окном уже вечер. В низкой и тесной избе полумрак. Печка пышет жаром. Пахнет кислым хлебом и чем-то тупо-сладким, от чего мутит под ложечкой.
Дедушка Семен сидит на голбце у печи. Он в длинной-длинной белой рубахе и белых штанах. Лицо у него сухое, кроткое. Глаза тихие, умные. Седая борода и жидкие пучки волос на голове опрятно прибраны. Весь он такой чистый, хороший. Живет с ясной душой, готовый умереть, когда случится.
С детским любопытством наблюдая за раскладкой багажа, он долго смотрит на красивый черный ящик, наконец, протягивает восковую руку и берет его. Нечаянный нажим — и аппарат со звоном раскрывается, показывая полированную внутренность. Ящик падает в колени. Дед смеется виновато и растерянно.
— Изломал, кажись?
— Ничего! Хорошо, что не на пол.
Подает мне аппарат дрожащими руками.
— Штука-то, ишь она какая… не бывало у рук-то… Сказывают, будто этими, как их, землю обмеряют… С деревни лонись наезжал народ, так все болтали, што с заимок нас погонют.
А сам щупает меня глазами. «Не из тех ли, мол, милый?» Но спросить боится.
Я успокаиваю деда. А он все так же виновато улыбается.
— Не дослышу, милый, не дослышу.
— Кого там не дослышу, — вздыхает баба: — совсем окреп ушами. Хошь в барабанты бей — не мигнет.
Она оживилась и хлопочет без устали.
— То-то, смотрю я, кто, мол, это. Ровно бы одежа наша, да опять, без бороды. В этом месте ежли кто из деревень покажется, так до краю надивуешься. Заблудящий рази кто наедет. Пра-аво.
Дедушка перебивает:
— Тебе, милый, может, похлебать чего бы? Катерина! А?
— Ну уж, где им нашего! Не станут. Вот уже утре испеку блинов. Только мука-то у нас — слава одна, что мука, а испекешь, так из души воротит. Лонишный хлеб-то.
— Плохой родился?
— Кого там! Испрогиблое што ни есть местишко. Овощь не родится, не то што. Кругом мочажина, изморось, туман. Хлеб-то из деревни возим на вьюках. Греху одного сколь, пока дотянешь.
Катерина вскипятила чайник. Сизо-черный от смолистой копоти, он даже на столе сердито хлюпает под крышкой и стреляет паром через круто выгнутый носок…
Стол накрыт серой запачканной холстиной. На холстине — треснувшая чашка, горка длинных, ноздреватых ломтей хлеба и деревянное корытце с сотами.
Катерина извиняется:
— Чай-то, поди, свой заварите? У нас и нет его. Пьем бадан да всяки травки. Так, абы пахло да покруче напревало.
В ее голосе звучит насмешка, хотя лицо такое грустное, серьезное. Баба она видная, пожалуй, молодая, но жизнь твердой рукой провела по лицу, исказила его. Катерина говорит, говорит, а глаза беспокойно шныряют. Кажется, что каждую минуту она ждет кого-то, кто-то вспугивает ее душу.
— Тоже видела, как люди-то живут. Шестой год на этих местах, а до того все по стряпкам служила, у господ, в Семипалатном. Все, бывало, по-людски, не как-нибудь. Изготовить ли чего, подать ли… Не то што… Чо это? Как попала? А так уж вышло оно. На разнесчастную мою голову. Жила я, значит, у священника, отца Ксенофонта. Вот хороший был батюшка! Да вы, поди, знаете его? Нет? Хороший человек, обходительной. И Мирон-то в те поры лесом занимался, сплавлял, ну и, значит, как в городе, сейчас бате меду бадейку. Не жалел, тот уважал хорошо. Мирон-то и сманил костяную дуру. То и то тебе будет. Дескать, ничего, што вдовый. Детей нету, а заимка, пасека, хозяйство. Пошла на своды. Венца у них нету…
— Чаю выпьешь со мной?
Она обрывает рассказ, благодарно улыбается и отходит к печке, где садится на узкую лавку, подпирая щеку кулаком.
— На здоровье кушайте с дороги-то. Пожалуйте с медком, послаще.
— Свой?
— Да вот дедушка добыл. За мысиком тут пасечка. Ране, сказывают, у него стояло сот помного, на Громотушке-речке. Теперь уж где ему! До десятку роев доржит. Мирон — тот не охочий. Прахом все пустил.
— Подсаживайся!
Она нерешительно бросает взгляд то на меня, то в угол печки, за которым вздыхает старик, и тянет руку к шкапчику.
— Рази чашечку.
Катерина воровски, заслоняя собой стол от старика, наливает чаю и устраивается опять на лавке. Пьет она с мирным, довольным лицом, пьет чашку за чашкой. А дедушка Семен совсем задремал — приморился на пасеке — но все видит и все слышит, старый, душой понимает.
Мухи липнут к столу, роями носятся над головой, мелькают точками по серым стеклам.
Катерина вытирает фартуком лицо.
— С год, однако, не пила. Все бадан да блошница. Трава — она трава и есть. Ни скусу, ни питанья… Вера такая у них, — кивает она на угол. — Ни боже мой, ни чаю, ничего. Чашешны они. У каждого своя посудина. Как смешались — надо очищаться. На петимью друг дружку ставят… Какой веры? — она безнадежно махает рукой. — Теперь и сам господь не даст толку, какой они веры. Всяки тут есть. На Громотушке все больше федосеевщины держатся. Старик-то оттуда. Тоже феодосевской, не отстает. А Мирон — тот дырник. Э-эвон дырка в стене, подрушничком заткнута. Так на разно и молятся… Приехал, слышь, на Громотушку исхимник какой-то. Так, из виду маленькой, сухонькой, а заговорит, заговорит — отколь чего берется. Сам наговаривает, а сам головкой этак, головкой этак. Сомустил народу страсть. Вот с того на Шумишке третий год болтаемся. Подобрали избу. От Климушки, покойника. Потянул Мирон-то. На миру ему людно, не по ндраву стало… Исхимник этот, — не найдя слов, ударила рукой по лавке, — будь он трою-трижды на семи соборах! Нету на них здесь… Шляются кажинный год…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», "В камнях", "На рубеже Азии", "Все мы хлеб едим…", "В горах" и "Золотая ночь".Мамин-Сибиряк Д. Н.Собрание сочинений в 10 т.М., «Правда», 1958 (библиотека «Огонек»)Том 1 — с.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
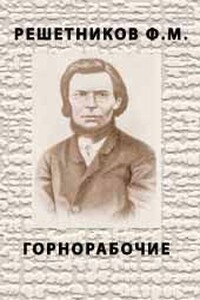
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению».

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 116, 4 июня; номер 117, 6 июня; номер 122, 11 июня; номер 129, 20 июня. Подпись: Паскарелло.Принадлежность М.Горькому данного псевдонима подтверждается Е.П.Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А.М.Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А.Треплевым, работавшим вместе с М.Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком – современники», М. 1928, стр.51).Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.