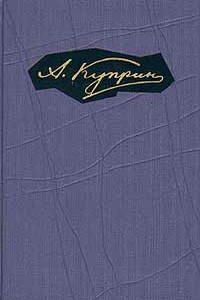Беловодье - [57]
Васса не ответила.
— Вася!
— Ну?
— Научи меня, Вася!.. Замоталась я.
Аннушка с трудом находила слова.
— Помнишь, приезжали Пахомовски?.. Сватался парень-то.
Васса обернулась. Глаза потухли, лицо пересеклось морщинами, и вся она была уставшая, опять покорная.
— Ты про Василия?.. Знаю… Иди, — снова оживилась, пересела ближе.
— Иди. Иди. Хоть за черта, хоть за дьявола. Уходи отсюда. Погинешь.
— Грех ведь, Вася!.. Тяжкий грех… Сама вызвалась, сама пошла, никто не тянул…
— Уходи… Может, мне вот как тошно, только сейчас я с добра тебе говорю. Мирская ты, уходи.
Аннушка ломала руки на коленках.
— Так я это… Никуда не уйду… Нельзя, нельзя, нельзя!..
— Дура ты, Анна! Мудришь над богом. Бог тебе дает дорогу, сам показывает…
— Плетешь, чего не надо! — осердилась Аннушка.
— А по мне — дак хоть век не ходи… Выдерживай тут срок на игуменью… За язык никто не дергал: ты спросила — я сказала. Из меня тоже не шибко выколотишь. — Она усмехнулась. — Год вот здесь ты, а впервой еще толкуем… Тошно мне глядеть на тебя. Без тебя тут лучше было, жила попросту. Молилась да ругалась, а потом опять молилась да опять ругалась. Я — их, они — меня. А ты пришла овечкой этакой… Где бы надо огрызнуться, а ты с угодой да с поклоном. Сирота, подумаешь.
— Да я и так…
Задрожали губы, застелило глаза — Аннушка, рыдая, опрокинулась на бок и уткнула лицо в руки.
— Господи!
Она плакала, вся вздрагивая, и не могла остановиться.
Васса растерялась.
— Вот тебе! Чего ты воешь? Брось. Не первая… Мне, может, вот как подпирает, да молчу… Ну, уймись!
Она говорила непривычные слова, с трудом их подбирая, и, наклонившись, гладила Аннушкину спину и плечи, пока и сама не заплакала. Испугалась, отодвинулась, смахнула слезы рукавом и крепко сдвинула бескровые тонкие губы. Аннушка затихла, расклонилась украдкой и села, неподвижная, с красным опухшим лицом, обхвативши руками коленки. Обе долго молчали. Перед ними на гранитных остряках тревожно перепархивала серенькая птичка, жалобно чирикая, — просила уйти. В жарком солнечном свете за зелеными горами, схоронившими обитель, поднимались новые скалы и сопки, и чем глубже уходили они в дали, тем синее становились их уклоны. За горами, за матерым черным лесом, за студеными бурными речками был грешный мир.
— Синюха, однако, маячит? — спросила чуть слышно Аннушка. Васса улыбнулась.
— В одно слово, девка! Сама разглядываю. Не иначе, как Синюха: ишь, над ней это вьет, ненастье, видно. Не стоит она чистая… А вон это — Глядень… Ощетинился зубьями. Сказывают старики, что будто бы с Китаем воевали, а на Глядень пикеты ставили, — видно оттудова далеко на все стороны.
— Под Синюхой у нас пашни были, — грустно вспоминала Аннушка: — родилось завсегда. Где высохнет, а под Синюхой нет того дня, чтобы дождь не перепал. Соберется к полдню, прыснет и опять разведрит.
— У Большого Гляденя, — оживилась Васса: — в логу в самом Соколовка лежит, э-эвон сопочка повыше других, так за ней.
— На Синюху мы все за малиной ездили, — перебила Аннушка, — вот ложок темнеет, отсюда совсем и не видно, а он большой, версты на три будет. Каменная из него берется. Ключами исходит.
— Гляди, гляди! — дернула ее Васса, показывая на обитель: — через речку — Параскева.
— Почем знаешь? Однако, Ксения?
— Ну. Кому больше в эту сторону? Не иначе, как на кухню потянула. А у меня там — беда… Нет, мимо. Мимо. Видно, к Аграфене…
Васса нехотя съела горсть ягод и вспомнила:
— Уходи ты, девка, уходи. Не житье тебе тут. Все едино уйдешь… С добра лучше. Дескать, так-то, матери…
Аннушка молчала.
— Ежели только не обманет твой… этот… Поди, тоже баламутит только…
— Василий?
Аннушка гордо посмотрела на Вассу.
— Нет.
— Тебе виднее, — улыбнулась Васса опять по-своему, по-старому. — Не всем моя доля. — Она подумала, подтянула косынку и встала. — Пойдем, ли чо ли.
— Погоди маленько.
— А вот время мне с тобой тут путаться, — вскипела неожиданно Васса, хватая туяс. Айда! А то, если хошь, оставайся.
Она круто отвернулась и стала спускаться, прыгая по камням. Аннушка удивленно посмотрела ей в спину, оправилась и, вставши, окинула последним взглядом родные далекие горы. Надо было уходить. Васса быстро удалялась. Она шумела россыпью под каменным уступом и ворчливо кого-то ругала.
Накануне Петрова дня Аннушка была у исповеди. Поговела с усердием, и отстал Василий.
Поднимаясь на клирос, Аннушка еще не знала, скажет ли, сумеет ли покаяться. Но Ксения стояла неземная и властная, смотрела в душу и все видела. Аннушка не помнит, как это случилось, но сама собою настежь открылась душа, и страшными тайными словами она рассказала обо всем — и о Василии, и о полунощном блуде, и о думах поганых. Опустело в душе, закостенело, вымерло, голова закружилась. Подломились ноги, и Аннушка упала на колени перед высоким налоем, а над ней стояла Ксения и дрогнувшим голосом читала длинную молитву. На голове лежали сухие горячие руки. Не хотелось уходить из-под них, хотелось замереть на месте, чтобы дольше-дольше стоять тут без тайн, без дум и без горя.
После исповеди Аннушка уверовала в Ксению. Страшное слово — святая, но святые были тоже люди. От нее не схоронишься, в чужой душе — она хозяин. Не даром, значит, тут ее поставили — достойна того: не сдастся, не склонится…
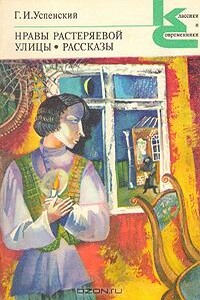
В сборник произведений выдающегося русского писателя Глеба Ивановича Успенского (1843 — 1902) вошел цикл "Нравы Растеряевой улицы" и наиболее известные рассказы, где пытливая, напряженная мысль художника страстно бьется над разрешением вопросов, поставленных пореформенной российской действительностью.
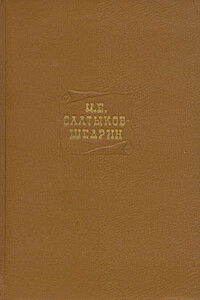
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.«Сказки» — одно из самых ярких творений и наиболее читаемая из книг Салтыкова. За небольшим исключением, они создавались в течение четырех лет (1883–1886), на завершающем этапе творческого пути писателя.

Константин Михайлович Станюкович — талантливый и умный, хорошо знающий жизнь и удивительно работоспособный писатель, создал множество произведений, среди которых романы, повести и пьесы, обличительные очерки и новеллы. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принципиальности.В седьмой том вошли рассказы и повести: «Матроска», «Побег», «Максимка», «„Глупая“ причина», «Одно мгновение», «Два моряка», «Васька», и роман «Жрецы».http://ruslit.traumlibrary.net.

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению».

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 116, 4 июня; номер 117, 6 июня; номер 122, 11 июня; номер 129, 20 июня. Подпись: Паскарелло.Принадлежность М.Горькому данного псевдонима подтверждается Е.П.Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А.М.Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А.Треплевым, работавшим вместе с М.Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком – современники», М. 1928, стр.51).Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.