Баженов - [5]
После торжества открытия была устроена иллюминация, которая изображала Парнас с Минервой, ставящей обелиск во славу Елизаветы.
Меценатствующий царедворец Шувалов был назначен куратором университета. Часть преподавателей приглашена из Германии.
Университет помещался в старинном здании, где при Петре была остерия (кабак), а позже аптека, у Вознесенских ворот в Китай-городе. Помещения гимназистов были разграничены: дворяне жили отдельно от разночинцев и пользовались иным уходом и содержанием. Первый выпуск дал много имен, отмеченных русской историей.
Соучениками Баженова были И. П. Тургенев, М. Н. Муравьев, Д. Н. Фонвизин, Н. И. Новиков, Г. А. Потемкин (двух последних — будущего вождя масонов и влиятельного фаворита Екатерины — выгнали за неспособность), П. В. Лопухин и другие.
Фонвизин, вспоминая годы учения, рассказывает: «Учились мы весьма беспорядочно. Ибо, с одной стороны тому были причиной ребяческая леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу; латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков»…
Средства, отпущенные на содержание университета, оказались через год разворованными. Шувалов не без грусти отмечал в своих письмах: «Не токмо разночинцы, но и благородные ученики великую нужду терпят в платье, обуви и пище».
Баженов с яростью учил латынь, французский язык и зачитывался немногочисленными в библиотеке книгами по истории, искусству, опережая всех учеников по рисованию и общему художественному развитию. Едва ли не беднее всех был Баженов, но держался гордо и независимо. За насмешки над собой или навещавшим его отцом-дьячком жестоко колотил своих товарищей.
Посещение церквей с их прекрасной древней живописью, с поющим в полумгле хором из крепостных, гимназическое воспитание с увлечением «митологией» уводили Баженова из реального мира в смутную область экзальтированной мечтательности. Впрочем, внешняя жизнь была так безобразна, что ее не хотелось замечать. Мистическое, таинственно-религиозное настроение наблюдалось заметнее всех у Новикова, Тургенева, Невзорова, Баженова (в будущем они встретятся на тайных собраниях московской масонской ложи).
Изучение богословия и церковное толкование мифологии безжалостно усиливали путаницу в голосах учеников.
Так шли гимназические годы Василия Баженова.
Подошло время выпускных экзаменов.
Фонвизин, учившийся вместе с Баженовым, рассказал об этом следующее:
«Накануне экзамена делалося приготовление; вот в чем оно состояло: учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностью, спросил я учителя о причине.
— Пуговицы мои вам кажутся смешны, — говорил он, — но они суть стражи моей и вашей чести: ибо на кафтане значит пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; и так, — продолжал он, ударяя по столу рукою, — извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь: если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжением поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете.
Вот каков был экзамен наш».
Болховитинов (митрополит Евгений), написавший первую биографию Баженова, пользовавшийся многими подлинными документами и лично знавший его, рассказывает: «Когда в 1758 году основалась в Санкт-Петербурге Академия Художеств и начальствующий над ней обер-камергер Иван Иванович Шувалов потребовал из Московского университета несколько питомцев, способных к изящным художествам, тогда Баженов назначен первым в числе таковых и отправлен в Санкт-Петербург».
В ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
Столица…
Баженов представился Шувалову, и вельможа, осмотрев юношу, остался доволен его приятным внешним видом — стройный, с тонкими чертами немного удлиненного лица. Шувалов решил представить студента императрице.
Баженова привезли в Зимний дворец. Его сопровождал Шувалов и провел через комнаты придворных. Баженов был поражен теснотой, убожеством убранства дворцовых комнат, удивительным безвкусием и лежавшей на всем печатью неряшливости: везде воняло, на стенах проступали пятна сырости.
Прошли в более парадный приемный зал.
Скоро вошла окруженная свитой, крупная и стройная, с красивым круглым цветущим лицом, молодая, веселая женщина — императрица Елизавета.
Когда подошла очередь Баженова, Шувалов вытолкнул его на середину и представил Елизавете как отменного по способностям художника. Баженов подошел ближе, неуклюже поклонился и поцеловал протянутую душистую пухлую руку. Императрица, ничего в искусстве не понимая, интересуясь преимущественно кулинарией и итальянской комической оперой, пролепетала Баженову, что ждет от него великих произведений.
В камер-фурьерском журнале отмечено, что Баженов был принят императрицей и «удостоился особого благоволения».
Но Академия художеств еще не была открыта. Баженова временно определили учеником к архитектору-интенданту Савве Ивановичу Чевакинскому, вошедшему в архитектуру из команды Ухтомского. У Чевакинского Баженов выполнил едва ли не первую самостоятельную архитектурную работу: спроектировал колокольню Никольского собора. Эта колокольня по контуру исключительно изящна, соотношения частей дают ощущение легкости, а распределение колонн и живописного орнамента не уступает лучшим работам знаменитого «обер-архитектора» графа Растрелли.
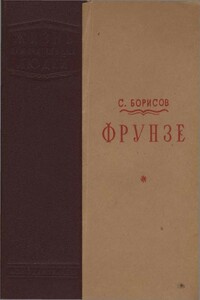
В настоящем издании представлен биографический роман о Михаиле Васильевиче Фрунзе, одном из наиболее блестящих военачальников Красной Армии во время Гражданской войны.
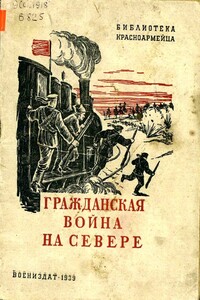
Очерк кратко излагает историю хозяйничанья интервентов в Мурманске и Архангельске и организацию их разгрома.Автор приводит отдельные эпизоды героической борьбы частей Красной Армии и Красного Флота за освобождение Севера от интервентов и белогвардейцев.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.