Баллада судьбы - [10]
— Скорблю о твоей душе.
— К мертвым и я добр, господи, а ты живых помилуй! Протяни мне руку, чтобы я восстал, и клянусь тебе…
— Не клянись.
— Но я хочу жить! Разве это грех — жить?
— Жить? А что такое жить? Красть, пить вино, распутничать, клясться лживой клятвой? Как жена Лота оглянулась на дом свой, оглянись на жизнь свою — и остолбенеешь. Дом твоей жизни горит, скрепы вырваны, кровля из балок трещит, рушатся стены, и нет дома — головешки и зола. Зачем же просишь новый дом, если не берег старый? Теперь скулишь, как пес.
— Ничего я не прошу, о милосердный, только черствую корку жизни.
— А это и есть дороже всего. Страшны твои увертки, Франсуа! Знаешь, кто зарабатывает хлеб, пятясь назад? Канатчики. Видел ты их на Хлебной пристани и в порту: пятятся назад и плетут, пятятся и плетут. Тебя же ноги несут вперед, а голова обращена назад. Вот ты говоришь о поле, которое вспахал… Что же ты сделал со своим полем? Засеял его чертополохом, а не хлебом. Слова твои из глины, а время — проливные дожди; прошли — и где твои слова? Размыло, унесло прочь с грязной водой.
— Прости, что прекословлю, господи, но ты не прав. Да, сам я создан из глины и глиной стану, но глина моих слов, обожженная огнем времени, станет тверже камня. Уж в этом деле я знаю толк больше многих! И странно мне, что ты, принявший муку ради слова…
— Не слова, Франсуа, а Слова.
— А оно и становится Словом, наполненное живой кровью. Скорчившись, лежит в утробе — еще никто, не выкидыш и не дитя. Когда же начинает рвать чресла матери, и мать кричит от боли, рожая плод в крови и последе, и смертный пот течет по ее лицу, тогда рождается Слово. Бывает, что роженица умирает после родов, как было и с тобой, благой и милосердный. Так умереть и я согласен, но за чужую руку, пырнувшую ножом мэтра Ферребу?! Будь же защитой мне, а не прокурором.
— Я не прокурор, нет на мне черной мантии с горностаевой опушкой — такое же рубище, как у тебя. И не свидетель я, показывающий на тебя. Эх, Франсуа, не знаешь ты меры ни в отчаянье, ни в надежде… Что ж, человек, живи. Доверь свою жизнь божьему промыслу и помни: черенок плода твоего, прилепившегося к ветви, тоньше паутины: довольно ветру дохнуть, пролиться дождю или ударить граду — и упадешь мимо моей ладони. Оборонись молитвой, как твоя кроткая мать; помни о ней — по колено в ее слезах бредешь, потому и одежды твои солоны, и губы горьки, как вода морская, и волосы белы, как соль.
Господь положил легкую руку на глаза Франсуа, и стало светло, золотистые искорки закружились, соединяясь в белые листья, как распустившиеся лилии, и Франсуа увидел желтое светоносное яблоко; оно росло, уже не умещаясь во взоре, наполняя все окрест красной и розовой желтизной. Свет обнял сердце Франсуа, как крохотное семечко.
— Господи, как легка рука твоя…
Глава 8
Хотя от парламента до Шатле было не больше четверти часа ходьбы, повытчик Жиро успел продрогнуть под сырым снегом и клял спешку, вынудившую его выйти из канцелярии на безлюдную улицу. Он ненавидел Вийона, и уж, будьте спокойны, он, его супруга и трое детей сразу после утренней молитвы поспешили бы к воротам Сен-Дени, чтоб не пропустить сладчайшей минуты, когда фигляр Вийон задрыгает ногами. И вот теперь не кто иной, как он, мэтр Антуан Жиро, спешит, мокрый и продрогший, вручить коменданту Шатле указ о помиловании. Есть от чего сойти с ума! Да можно ли после этого верить в правосудие, если живодеры и убийцы выпархивают из тюрем, как щеглы, надувшие птицелова? Да как жить после этого?
Ругаясь, как тамплиер. Жиро дошел до площади и уже вдохнул побольше воздуха, чтоб без передышки добежать до арки ворот, но вдруг остановился и круто свернул в переулок, в кабак под вывеской «Дыра Жаннеты». Усевшись поближе к очагу, велел болтливой служанке принести кружку амбуасского пива и стал пить маленькими глотками. Он-то знал, каково сейчас приговоренному к казни, как ужасна каждая минута ожидания, и, чем меньше в кружке оставалось пива, тем медленнее Жиро пил, обсасывая черные усы. О, если б мог он швырнуть ненавистное письмо в очаг, он не пожалел бы десять экю за такое удовольствие. Нет, даже двенадцать. Баллады и рондо этого фигляра, будь он проклят, знает весь Париж, а он, кто сочиняет куда изысканней и благозвучней и переписывает набело красивым почерком, изукрашивая буквицы синим и киноварью, должен дарить стихи вельможам и их женам. И хоть бы раз услышать, как кто-нибудь на рынке или в кабаке, да хоть в отхожем месте, прочитал строчку из его баллад! А тут весь город только и ждет, когда пройдоха Вийон скроит из лоскутов свои пестрые стишки. Да что вы в них нашли, дурачье безмозглое?! Мало вам грязи на улицах? Зачерпывайте полными горстями, жрите: ведь он тычет вас носом в дерьмо, а вы восторженно хлопаете. Слепцы! Где уж вам разглядеть красоту истинной поэзии, в которой расцветают розы и фиалки, самоцветами сверкают брызги фонтанов, блещут поножами и оплечьями доспехов отважные рыцари, нежно поют прекрасные дамы с лицами белее лилий. Ведь об этом он и написал в своем лэ о нежной Гийометте.
Жиро велел служанке принести еще кружку. И, удовлетворенный тем, что его поэзия бесспорно лучше, поглубже натянул шляпу, от которой валил пар. Он просидел в таверне не меньше получаса, потягивая пиво. Время шло незаметно — но не для того, кто кричал, заслышав даже шорох мыши.

Это первое на русском языке художественное произведение о еврейском партизанском отряде, действовавшем в годы Великой Отечественной войны, рассказ о буднях людей, загнанных в исключительные условия. «Не думал, что для того, чтобы поверить в Бога, надо убить человека» – так начинается этот роман – книга-исход, книга-прорыв, книга-восстание.
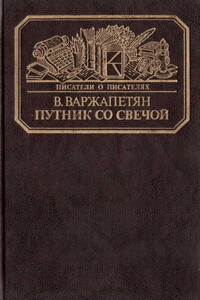
Книга посвящена трем поэтам «Путник со свечой» — повесть, давшая название всей книге, рассказывает о великом китайском поэте VIII в. Ли Бо. «Запах шиповника» знакомит с судьбой знаменитого поэта Древнего Востока Омара Хайяма. Творчество Франсуа Вийона, французского поэта XV в., его жизнь, история его произведений раскрыты в повести «Баллада судьбы».Внутреннее единство судеб поэтов, их мужественная способность противостоять обстоятельствам во имя высоких идеалов, соединило три повести в одну книгу.Прим.

Книга автора многих биографических повествований Вардвана Варжапетяна (род. в 1941 г.) «Доктор Гааз» посвящена великому гуманисту XIX века Фёдору Петровичу (Фридриху) Гаазу, своим милосердием, бескорыстием и сомоотверженностью заслужившего в России прижизненную славу «святого доктора».
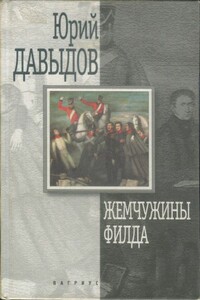
В послеблокадном Ленинграде Юрий Давыдов, тогда лейтенант, отыскал забытую могилу лицейского друга Пушкина, адмирала Федора Матюшкина. И написал о нем книжку. Так началась работа писателя в историческом жанре. В этой книге представлены его сочинения последних лет и, как всегда, документ, тщательные архивные разыскания — лишь начало, далее — литература: оригинальная трактовка поведения известного исторического лица (граф Бенкендорф в «Синих тюльпанах»); событие, увиденное в необычном ракурсе, — казнь декабристов глазами исполнителей, офицера и палача («Дорога на Голодай»); судьбы двух узников — декабриста, поэта Кюхельбекера и вождя иудеев, тоже поэта, персонажа из «Ветхого Завета» («Зоровавель»)…
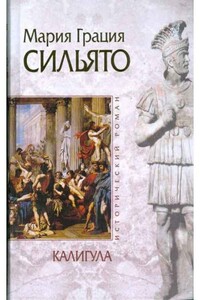
Одна из самых загадочных личностей в мировой истории — римский император Гай Цезарь Германии по прозвищу Калигула. Кто он — безумец или хитрец, тиран или жертва, самозванец или единственный законный наследник великого Августа? Мальчик, родившийся в военном лагере, рано осиротел и возмужал в неволе. Все его близкие и родные были убиты по приказу императора Тиберия. Когда же он сам стал императором, он познал интриги и коварство сенаторов, предательство и жадность преторианцев, непонимание народа. Утешением молодого императора остаются лишь любовь и мечты…
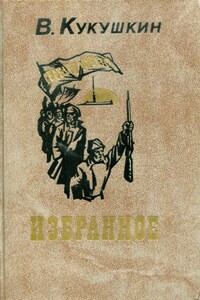
В однотомник известного ленинградского прозаика вошли повести «Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».

Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.
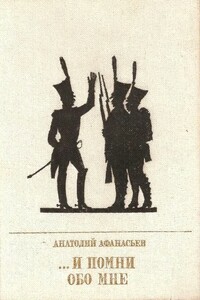
Анатолий Афанасьев известен как автор современной темы. Его перу принадлежат романы «Привет, Афиноген» и «Командировка», а также несколько сборников повестей и рассказов. Повесть о декабристе Иване Сухинове — первое обращение писателя к историческому жанру. Сухинов — фигура по-своему уникальная среди декабристов. Он выходец из солдат, ставший поручиком, принявшим активное участие в восстании Черниговского полка. Автор убедительно прослеживает эволюцию своего героя, человека, органически неспособного смириться с насилием и несправедливостью: даже на каторге он пытается поднять восстание.

Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.
