Бал на похоронах - [2]
— А что после смерти?
— После смерти — ты и сам хорошо это знаешь, и все это знают, только боятся себе в этом признаться — после смерти нет ничего. Мы умираем, как деревья, подточенные временем или поверженные молнией; как эти морские птицы — ты помнишь, мы подбирали их, бездыханных, на пляжах Корсики или Греции, — и мы умираем полностью.
— И что, когда ты умрешь, не будет ни священника, ни отпевания, ни молитв, ни надежд?
— Молитв? Зачем? Нет, мне ничего не надо.
— Просто имя на могильной плите?
— Имя?..
Я видел, что он раздумывает…
— Мое имя? Я думаю, что этого уже слишком много. Это бессмысленно… Зачем? Нет-нет, я совсем ничего не хочу… Ни молитв, ни воспоминаний… Прошу — никаких речей. Я всегда ненавидел речи. Никаких рассуждений. Не надо дат. Имени тоже не надо. Меня зароют в яму — и покончим на этом.
— Да уж, — сказал я, — это будет не слишком весело.
…Это оказалось совсем невесело. Мы все плакали. Мертвых всегда оплакивают, потому что знают, что больше не увидят их здесь, на земле, — даже если мы храним в сердце смутную надежду встретиться с ними когда-нибудь потом и в иных сферах… С Роменом все было хуже. Нас было довольно много — тех, кто любил его, — но он не оставил нам ни малейшего шанса вновь встретиться с ним — ни здесь, ни там, в какой бы то ни было форме… Он занимал огромное место в жизни многих из нас и теперь уходил навсегда, не протянув спасительного шеста, за который могли бы ухватиться наши надежды…
Я пришел на похороны задолго. Не считая фотографов, уже готовых к работе и липнущих вокруг Жерара, народа было еще мало, и я шел почти в одиночестве по длинным кладбищенским аллеям, окаймленным деревьями и могилами. Было хмурое мартовское утро, падали редкие капли дождя. Меж тем весна уже начинала пробиваться издали — неприметно, но упрямо — сквозь тучи, бродившие высоко в понемногу голубеющем небе. Если не считать, что Ромен умер и мы собирались его хоронить, — вполне обычный день…
Но в этот день мир сосредоточился вокруг Ромена. Потому что мы были друзья, а он уходил навсегда. Смерть, как любовь, стирает все остальное. Остались только он и я. И бесчисленные связи, которые нас объединяли.
Разные картины представали передо мной. Я снова видел его в Венеции, на Бали, в монастыре Святой Катерины, на Синае — там мы бывали с ним вместе. Это были красивые и яркие воспоминания. Но временами его лицо уже как бы начинало стираться: мне не удавалось ясно представить его себе. Он ускользал, растворялся, и меня понемногу охватывала паника. Я начинал опасаться, что вскоре буду не в состоянии мысленно увидеть его образ…
В этот момент я заметил вдали идущий ко мне знакомый силуэт — в свободном пальто, руки в карманах — Виктора Лацло. Его черное пальто было отторочено меховым воротником. Он был в перчатках, кожаных сапожках, довольно высоких, в своем знаменитом галстуке-бабочке в горошек. Этот галстук был чем-то вроде опознавательного знака для тысяч его студентов, а они на Виктора просто молились. Его глаза блестели за стеклами очков и, в сочетании с очень белыми волосами, придавали ему странный вид человека, пришедшего в это угрюмое место просто развлечься.
Виктор Лацло и вправду был любопытной личностью. Он был венгр по национальности и преподавал в Высшей практической школе. Что он преподавал? Трудно сказать. Вообще он был лингвистом. Он говорил на добрых двух десятках языков, а начинал в Париже и Принстоне с курсов тибетских языков. Он называл себя мифологом, был великолепно образован, и его лекции в Высшей школе привлекали пеструю толпу студентов, а еще бродяжек в надежде согреться, да честолюбивых чиновников и светских дам, которым не повезло в жизни и которые не смогли найти утешения в религии.
Я сам прослушал — со смесью раздражения и восхищения — некоторые из его курсов и кончил тем, что вступил с ним в сдержанную дружбу. Как-то вечером я встретил его в доме у знакомых, возле Пантеона, где регулярно собирался маленький круг друзей из разных мест и куда случалось попасть посторонним гостям. Это было в конце правления генерала Де Голля. Лацло высказывался о президенте республики так, что хоть сейчас надевай на него наручники: он талантливо вышучивал его — жестко, почти с ненавистью, — и вызывал смех в его адрес у всех постоянных посетителей дома, среди которых, кроме хозяина и меня, были Ромен, Жерар и некоторые другие.
Как раз на следующий день Генерал открывал выставку египетских древностей в Лувре. Я пришел туда с Роменом и наблюдал издали за толпой придворных, стремящихся взять штурмом главу государства. И вдруг, к своему изумлению, я увидел моего Виктора, который, работая локтями, исхитрился предстать прямо перед Генералом. И я услышал, как он произнес громким и четким голосом, в должной форме, клятву верноподданности, которой от него вовсе никто не требовал. Заканчивалась она словами: «Будьте уверены, господин Президент Республики, что у вас нет более верного и преданного сторонника, чем я».
И тогда вдруг Лацло заметил меня, глядящего на него в изумлении. Он обернулся ко мне без малейшего смущения и бросил со смешком:
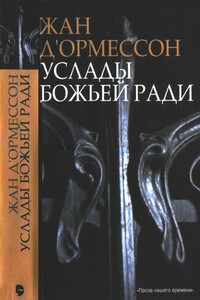
Жан Лефевр д’Ормессон (р. 1922) — великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы.В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.

Автор – профессиональный адвокат, Председатель Коллегии адвокатов Мурадис Салимханов – продолжает повествование о трагической судьбе сельского учителя биологии, волей странных судеб оказавшегося в тюремной камере. Очутившись на воле инвалидом, он пытается строить дальнейшую жизнь, пытаясь найти оправдание своему мучителю в погонах, а вместе с тем и вселить оптимизм в своих немногочисленных знакомых. Героям книги не чужда нравственность, а также понятия чести и справедливости наряду с горским гостеприимством, когда хозяин готов погибнуть вместе с гостем, но не пойти на сделку с законниками, ставшими зачастую хуже бандитов после развала СССР. Чистота и беспредел, любовь и страх, боль и поэзия, мир и война – вот главные темы новой книги автора, знающего систему организации правосудия в России изнутри.
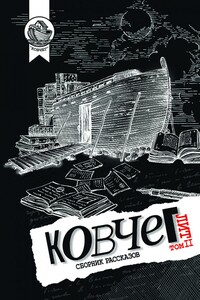
В сборник "Ковчег Лит" вошли произведения выпускников, студентов и сотрудников Литературного института имени А. М. Горького. Опыт и мастерство за одной партой с талантливой молодостью. Размеренное, классическое повествование сменяется неожиданными оборотами и рваным синтаксисом. Такой разный язык, но такой один. Наш, русский, живой. Журнал заполнен, группа набрана, список составлен. И не столь важно, на каком ты курсе, главное, что курс — верный… Авторы: В. Лебедева, О. Лисковая, Е. Мамонтов, И. Оснач, Е.

Книга «Подарок принцессе. Рождественские истории» из тех у Людмилы Петрушевской, которые были написаны в ожидании счастья. Ее примером, ее любимым писателем детства был Чарльз Диккенс, автор трогательной повести «Сверчок на печи». Вся старая Москва тогда ходила на этот мхатовский спектакль с великими актерами, чтобы в финале пролить слезы счастья. Собственно, и истории в данной книге — не будем этого скрывать — написаны с такой же целью. Так хочется радости, так хочется справедливости, награды для обыкновенных людей — и даже для небогатых и не слишком счастливых принцесс, художниц и вообще будущих невест.

Либби Миллер всегда была убежденной оптимисткой, но когда на нее свалились сразу две сокрушительные новости за день, ее вера в светлое будущее оказалась существенно подорвана. Любимый муж с сожалением заявил, что их браку скоро придет конец, а опытный врач – с еще большим сожалением, – что и жить ей, возможно, осталось не так долго. В состоянии аффекта Либби продает свой дом в Чикаго и летит в тропики, к океану, где снимает коттедж на берегу, чтобы обдумать свою жизнь и торжественно с ней попрощаться. Однако оказалось, что это только начало.

«Сто лет минус пять» отметил в 2019 году журнал «Октябрь», и под таким названием выходит номер стихов и прозы ведущих современных авторов – изысканная антология малой формы. Сколько копий сломано в спорах о том, что такое современный роман. Но вот весомый повод поломать голову над тайной современного рассказа, который на поверку оказывается перформансом, поэмой, былью, ворожбой, поступком, исповедью современности, вмещающими жизнь в объеме романа. Перед вами коллекция визитных карточек писателей, получивших широкое признание и в то же время постоянно умеющих удивить новым поворотом творчества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.