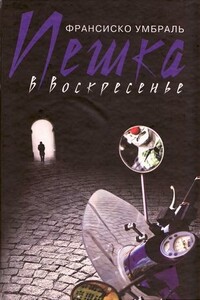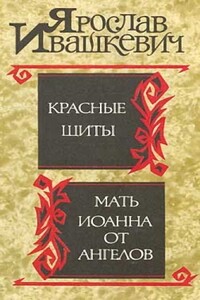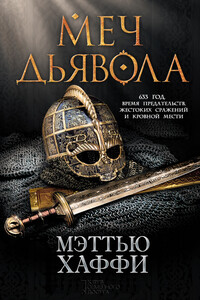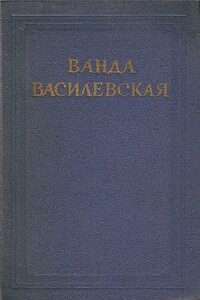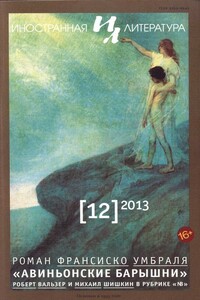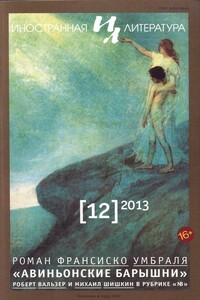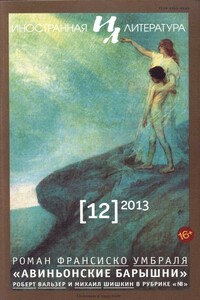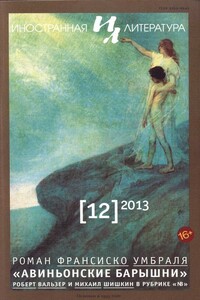Я сел на краешек кровати, нашей кровати, и заплакал. Потом вышел на балкон, передо мной лежал ночной июльский Мадрид, только отдаленные выстрелы и разрывы тревожили его спокойный сон. Я вдруг перестал понимать, кто я, что я, где я, откуда я, что делаю. Я потерял мою любовь, но гораздо острее, чем боль от этой потери, я ощущал свою растерянность — у меня больше не было жизненных ориентиров, отныне меня никто по жизни не вел и никто ничего не объяснял.
Я вернулся к ней, и увидел на постели письма и стихи Рубена. Я почувствовал, что меня предали. Она умерла, слушая музыку стихов гениального индейца, он белей олимпийского снега, лебедь с розой оттенков агата, что крыло, словно веер в полнеба, раскрывает на фоне заката. Она никогда не была моей. Она принадлежала Рубену, она принадлежала другой эпохе, не моей. Я подумал, что должен вернуться на улицу, на войну, к Мадриду, найти снова Гарсиа, или кого-то другого, кто скажет, что мне делать и что мне думать. Пробили часы и тут же прозвонил колокол с монастырской колокольни. Ночные звуки мне помогли, и в голове прояснилось: сидеть над тетушкой Альгадефиной, похоронить тетушку Альгадефину рядом с семьей, потом одеться ополченцем и пойти по Мадриду, как бродячий полубог, сбившийся с курса, он белей олимпийского снега, лебедь с розой оттенков агата, что крыло, словно веер в полнеба, раскрывает на фоне заката.
Парк Ретиро в Мадриде. Хрустальный дворец