Авиньонские барышни - [3]
— Я знаю, что он поведет меня на небо, как я водил его в Вальекас[7].
Прогулка, как правило, заканчивалась в музее Прадо, перед «Христом» Веласкеса, в котором мой прадед не видел ничего особенного, однако он неизменно впечатлялся тем, как его друг вставал на колени и молился своими стихами (ставшими впоследствии знаменитыми) перед образом, написанным Веласкесом с присущим ему гениальным безразличием, возможно даже на заказ.
Когда дон Мигель де Унамуно входил в дом, мы все словно оказывались на церковной службе. По своему складу он скорее был священнослужитель, чем мирянин. Мне, совсем малышу, он говорил, что у меня интонации проповедника.
— Ты должен нести людям идеи Евангелия, в этом смысл твоей жизни, мальчик, тем более что ты обладаешь такой манерой говорить.
Моя мать, женщина свободных взглядов, обычно обращала его слова в шутку. Когда дон Мигель обедал или ужинал у нас, он неизменно благословлял пищу, чего мы сами никогда не делали. Однажды они взяли меня с собой в Прадо, и я до сих пор помню, как этот сеньор, такой почтенный и такой серьезный, стоял на коленях перед картиной, будто он не в музее, а на мессе в соборе. Туристы глазели на нас, и мне было очень стыдно. Перед распятием в церкви тебя пробирает дрожь, но перед распятием в музее ты не ощущаешь ничего.
— Мадрид — город дьявола, — сказал, выходя, дон Мигель, — и спастись можно только этим Христом.
Однако он тут же — и свидетелем тому не раз бывал дон Мартин Мартинес — с восторгом погружался в этот город дьявола: в Атеней, в политику, в газеты, в кафе, в утренние прогулки по старому Мадриду с бесконечными разговорами об античности.
— Там на выборах кандидат был безупречен, потому что выбирали самого молодого, самого честного, ничем себя не запятнавшего.
Дон Мигель проявлял такое неравнодушие к этому городу дьявола, что его даже отправили в ссылку, о чем читатель еще узнает на страницах Авиньонских барышень — этого правдивейшего романа. Чего он не умел — так это сидеть спокойно в своей скучной старомодной Саламанке. Мистик Унамуно был вне власти дьявола и плоти, но мир, то есть Мадрид, оставался для него большим соблазном, что делало его для нас более человечным и доступным, и поэтому прадед приводил его в дом благословлять нашу пищу.
Теперь, когда с той поры прошло столько времени, я понимаю, что единственные два человека, которых я, неверующий мальчик, воспринимал как священников, — это Унамуно и Фрай Луис де Леон[8], причем второй был развратным монахом, а первый вообще не был священником.
Дедушку Кайо с его вечным Фомой Кемпийским и неизменными четками дон Мигель немного пугал. Бабушку Элоису, женщину набожную, — тоже, хотя она всегда накладывала ему в тарелку лучшие куски. Однажды за столом, во время обеда, дон Мартин Мартинес произнес золотые слова:
— Знаете, кто вы, дон Мигель? Мне кажется, вы эразмист. И отчасти краузист[9].
Эразм, сеньор в большом берете и с большим носом, так он был изображен на картинке в учебнике, немало навредил (как следовало из текста) испанскому католицизму. Второго слова — краузист, которое звучало очень по-немецки, я не понял вообще.
— Я — реформист и одновременно контрреформист, дорогой дон Мартин. Я и Лютер, и Кальвин, и Святой Фома, и Аристотель, но никак не Краузе, этот недалекий буржуазный мыслитель. А вы знаете, что Святой Фома в свой последний час вдруг сказал монахам, записывающим за ним: «Оставьте, все мои слова — полный вздор».
Прадед дон Мартин Мартинес, который уже закончил есть, достал сигару, откусил у нее кончики, раскурил и, окутавшись сатанинским дымом, сказал дону Мигелю:
— А вы, не закончите ли тем же самым, признавшись на смертном одре, что все, вами написанное, полный вздор?
— Быть может, юноша, быть может.
Унамуно называл юношами всех, включая прадеда, который был намного его старше. Сейчас это слово прозвучало необычайно остроумно, и он, нервным движением руки, похожим на тик, механически поправил очки на носу.
Что касается тетушек, их подруг, мам и бабушек за столом, все они решили, что прадед поставил дона Мигеля на место (то есть на место священника, который не только совсем не похож на всех остальных священников, но, по сути, вообще не является таковым).
— Я вижу некое легкомыслие в этой семье, — сказал однажды дон Мигель, без сомнения имея в виду декольте тетушки Альгадефины, модели Пикассо, или декольте соседки Марии Луисы, еще одной модели молодого Пикассо.
— Извините нас, дон Мигель.
И они прикрыли свои декольте салфетками. Но солнечные блики — голубые, зеленые, красные, желтые — бешено плясали в их волосах.
— Однако я хорошо знаю нрав и взгляды моего друга дона Мартина Мартинеса, и я уверен, что в этом доме никогда не произойдет ничего, что могло бы выйти за рамки истинных испанских приличий и благопристойности.
Дон Мигель не знал, конечно, что молодой андалузский художник рисует тетушку Альгадефину и Марию Луису обнаженными.
В нашем доме царил матриархат, и только сильная личность прадеда дона Мартина Мартинеса несколько ослабляла власть женщин. В этом матриархате я рос, и поэтому позже, повзрослев, я всегда умел понять женщину. А для дона Мигеля все женщины, в том числе и его собственная жена, были лишь производителями потомства. Он даже не подозревал, как на самом деле обстоят дела в нашей семье. Он верил в патриархальность дона Мартина.
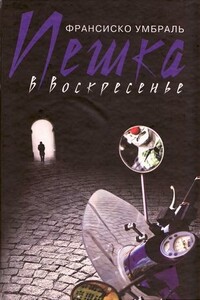
Франсиско Умбраль (1935–2007) входит в число крупнейших современных писателей Испании. Известность пришла к нему еще во второй половине шестидесятых годов прошлого века. Был лауреатом очень многих международных и национальных премий, а на рубеже тысячелетий получил самую престижную для пишущих по-испански литературную премию — Сервантеса. И, тем не менее, на русский язык переведен впервые.«Пешка в воскресенье» — «черный» городской роман об одиноком «маленьком» человеке, потерявшемся в «пустом» (никчемном) времени своей не состоявшейся (состоявшейся?) жизни.
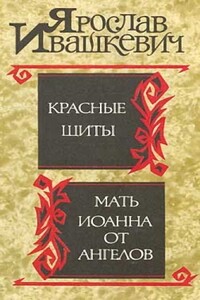
В романе выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича «Красные щиты» дана широкая панорама средневековой Европы и Востока эпохи крестовых походов XII века. В повести «Мать Иоанна от Ангелов» писатель обращается к XVII веку, сюжет повести почерпнут из исторических хроник.

Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.
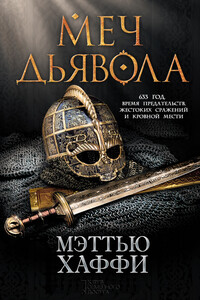
Британия. VII век. Идут жестокие войны за власть и земли. Человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша.Когда от руки неизвестного убийцы погиб брат, Беобранд поклялся отомстить. Он отправился на поиски кровного врага. Беобранд видит варварство и жестокость воинов, которых он считал друзьями, и благородные поступки врагов. В кровопролитных боях он превращается из фермерского мальчишки в бесстрашного воина. Меч в его руке – грозное оружие. Но сможет ли Беобранд разрубить узы рода, связывающие его с убийцей брата?
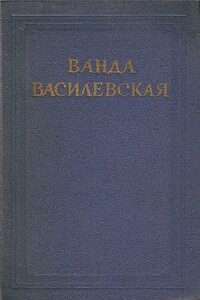
В 3-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли первые две книги трилогии «Песнь над водами». Роман «Пламя на болотах» рассказывает о жизни украинских крестьян Полесья в панской Польше в период между двумя мировыми войнами. Роман «Звезды в озере», начинающийся картинами развала польского государства в сентябре 1939 года, продолжает рассказ о судьбах о судьбах героев первого произведения трилогии.Содержание:Песнь над водами - Часть I. Пламя на болотах (роман). - Часть II. Звезды в озере (роман).

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.
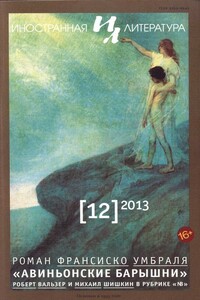
Английская писательница и дважды лауреат Букеровской премии Хилари Мантел с рассказом «Запятая». Дружба двух девочек, одна из которых родом из мещанской среды, а другая и вовсе из самых низов общества. Слоняясь жарким каникулярным летом по своей округе, они сталкиваются с загадочным человеческим существом, глубоко несчастным, но окруженным любовью — чувством, которым подруги обделены.
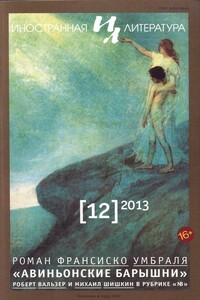
В рубрике «Другая поэзия» — «Canto XXXYI» классика американского и европейского модернизма Эзры Паунда (1885–1972). Перевод с английского, вступление и комментарии Яна Пробштейна (1953). Здесь же — статья филолога и поэта Ильи Кукулина (1969) «Подрывной Эпос: Эзра Паунд и Михаил Еремин». Автор статьи находит эстетические точки соприкосновения двух поэтов.
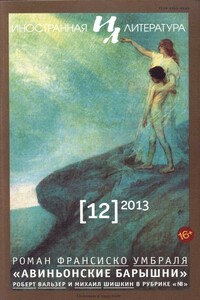
Эссе о жизненном и литературном пути Р. Вальзера «Вальзер и Томцак», написанное отечественным романистом Михаилом Шишкиным (1961). Портрет очередного изгоя общества и заложника собственного дарования.
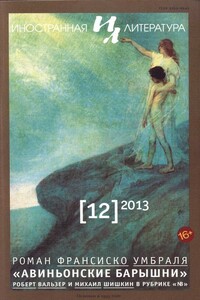
Перед читателем — трогательная, умная и психологически точная хроника прогулки как смотра творческих сил, достижений и неудач жизни, предваряющего собственно литературный труд. И эта авторская рефлексия роднит новеллу Вальзера со Стерном и его «обнажением приема»; а запальчивый и мнительный слог, умение мастерски «заблудиться» в боковых ответвлениях сюжета, сбившись на длинный перечень предметов и ассоциаций, приводят на память повествовательную манеру Саши Соколова в его «Школе для дураков». Да и сам Роберт Вальзер откуда-то оттуда, даже и в буквальном смысле, судя по его биографии и признаниям: «Короче говоря, я зарабатываю мой насущный хлеб тем, что думаю, размышляю, вникаю, корплю, постигаю, сочиняю, исследую, изучаю и гуляю, и этот хлеб достается мне, как любому другому, тяжким трудом».