Атлантида - [21]
Упиваясь этими заглушившими боль речами, Фридрих в то же время с ужасом думал о приближавшихся ночных часах. Он знал, что не сомкнет глаз. Закончив трапезу, он вместе с врачом отправился в дамский зал, а оттуда в курительную комнату. Но прошло немного времени, и он опять вышел на палубу, где было темно и пустынно и где в такелаже мачт вновь жалобно стенал сильный ветер. Было невероятно холодно, и Фридриху даже казалось, что на щеки его ложится снег. Наконец он решился отправиться на покой.
Два долгих часа, приблизительно между одиннадцатью вечера и часом ночи, он лежал без сна, скрючившись на своем матраце, и напряженно размышлял, и лишь иногда на короткий миг впадал в мучительно дремотное состояние, когда сновидение переплеталось с явью. В обоих случаях душа его возбуждалась под натиском сумеречных образов: то это был какой-то дикий хоровод, то отдельное лицо, терзавшее его и никак не желавшее отступать. И не было никакого спасения от этого насилия, заставлявшего держать внутренний взор открытым для игры чуждых сил. Он выключил свет и теперь в темноте, когда глаза стали бездеятельны, воспринимал с удвоенной силой то, что приносили ему слух и осязание: малейший шум и все колебания мощного корабля, продолжавшего равномерно идти своим курсом по полуночному океану. Он слышал, как где-то там в подполье неустанно роется гребной винт, напоминающий могучего демона, которого заставили трудиться на людей. Он слышал возгласы и шаги, когда кочегары выбрасывали за борт шлак, который выгребали из огромных топок. Тысячу двести пятьдесят тонн угля пожирали эти печи за один только нью-йоркский рейс.
Мысли Фридриха были прикованы к Маре, а иногда и к оставшейся на родине жене, и при этом теперь, когда Ингигерд Хальштрём надругалась над его привязанностью, он считал себя виновником страданий жены. Вся психика Фридриха была настроена на борьбу с ядом пожиравшей его страсти. Его трясло, как в лихорадке. И то, во что в этом состоянии превратилось его «я», бешено гналось за «ты», за Марой. Он ловил ее на улицах Праги и силой возвращал к матери. Он находил ее в притонах. Он видел, как она часами проливает слезы, стоя у окна в доме человека, который взял ее к себе из сострадания, чтобы затем ею пренебречь. Во Фридрихе еще не успел умереть доблестный немецкий юноша. Старый, износившийся идеал «немецкой девы» еще не померк в его глазах и сохранял свою святость. И как ни ловил Фридрих Мару на гнусных поступках, как ни отталкивал ее мысленно от себя, как ни старался всеми нравственными силами своего существа истребить ее образ, ее обрамленное золотыми локонами лицо и хрупкое белоснежное девичье тело проникали сквозь каждую завесу, каждую стену, каждую мысль, и нельзя было их изгнать ни молитвою, ни проклятьем.
В начале второго часа ночи Фридриха вдруг выбросило из постели. Когда он сразу же после этого, шатаясь, вернулся к койке, ему стало ясно, что «Роланд» вновь попал в беспокойные районы Атлантики и что погода опять ухудшилась.
Между пятью и шестью часами утра Фридрих уже был на палубе. Он опять занял место на вчерашней скамье напротив лестницы, ведущей в салон. Его стюард, энергичный молодой человек родом из Саксонии, принес ему горячего чаю с сухарями, как раз то, что было сейчас необходимо.
Палубу снова и снова захлестывало волнами. С крыши небольшой надстройки, защищавшей лестницу, время от времени потоками лилась вода, так что юный сослуживец Пандера, несший сейчас вахту, промок до нитки. На мачтах «Роланда» и в такелаже уже поблескивали льдинки. Дождь и метель сменяли друг друга. Казалось, что унылый сумрак этого утра с его сумятицей, свистками и завыванием ветра, бившегося у мачт с доносившимся отовсюду диким скрежетом, установился навеки.
Грея руки о стекло большого стакана с чаем, Фридрих глядел блестящими, но, как ему самому казалось, провалившимися глазами за борт то в одну, то в другую сторону, смотря по тому, сказывалась ли в данный момент килевая или бортовая качка. Он чувствовал себя опустошенным, отупевшим, но такое состояние было ему желанно после ночной гонки образов и картин. Что там ни говори, а крепкий, влажный, насыщенный бромом воздух и соленый привкус во рту действовали освежающе. Ему было знобко, но откуда-то из-под поднятого воротника пальто пришла благостная сонливость.
Несмотря на это он не переставал ощущать во всей полноте грандиозность всего, что видел и слышал: и возмущение волн, и борение плавучего дома, и красоту, с которой тот неуклонно шел по намеченному курсу, взрезая хребты водяных гор или, вернее, пробивая их с неубывающим, спокойным презрением к смерти. Фридрих восхищался удалью корабля, точно тот был живым существом, нуждавшимся в признании.
В начале восьмого к Фридриху неспешным шагом подошел худощавый стройный человек в форменной одежде и, приложив палец к фуражке, спросил:
— Вы господин фон Каммахер?
Фридрих ответил утвердительно, и человек этот достал из нагрудного кармана письмо, пояснив, что оно прибыло вчера из Франции лоцманской почтой, но не было вручено сразу же, так как в списке пассажиров не значилась фамилия Каммахер. Незнакомец — его фамилия была Ринк — возглавлял германско-американский морской почтамт на борту «Роланда».
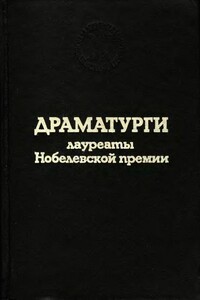
Герхарт Гауптман (1862–1946) – немецкий драматург, Нобелевский лауреат 1912 годаДрама «Перед заходом солнца», написанная и поставленная за год до прихода к власти Гитлера, подводит уже окончательный и бесповоротный итог исследованной и изображенной писателем эпохи. В образе тайного коммерции советника Маттиаса Клаузена автор возводит нетленный памятник классическому буржуазному гуманизму и в то же время показывает его полное бессилие перед наступающим умопомрачением, полной нравственной деградацией социальной среды, включая, в первую очередь, членов его семьи.Пьеса эта удивительно многослойна, в нее, как ручьи в большую реку, вливаются многие мотивы из прежних его произведений, как драматических, так и прозаических.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.