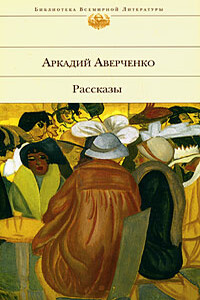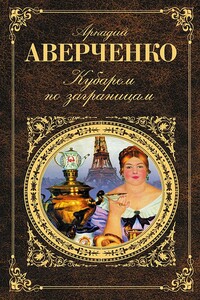И заканчивал тоже юмористически:
«Эх, брат, горько мне! А получи я гарантию — да я бы к тебе на бровях дополз…»
Тогда он уже был очень недурно устроен в Праге, и все-таки это согласие перебраться в Эстонию у него было не простым словом вежливости, а действительно выражением самого искреннего желания.
И в смысле художественном, и в смысле материальном выступления Аверченко проходили с отличным успехом и завидными результатами. Он сделал несколько прекрасных сборов и в Ревеле и в Юрьеве, отовсюду унося с собой самые отрадные впечатления. Слегка, чуть-чуть его огорчила только Нарва. Ему показалось, что с его спектакля взяли слишком большой налог. И со своей обычной беззаботностью, добродушно посмеиваясь, он написал об этом фельетон, а в нем говорил:
«Все знают, что я известен своей скромностью по всему побережью. Но вместе с тем не могу удержаться, чтобы не похвастать: есть такой город, который я содержу на свой счет! Этот город — Нарва. Я приезжаю в город, привожу свою труппу, выпускаю афишу, снимаю театр, в день своего вечера играю пьесы, читаю рассказы, получаю за это деньги и потом… все деньги аккуратно вношу нарвским отцам города. На мои деньги эти отцы благоустраивают мостовые, проводят электричество, исправляют водопровод и… ах, да мало ли у города Нарвы насущных нужд! И обо всем я должен позаботиться, все оплатить. Хлопотливая штука!»
Конечно, и тут не было никакой гневности. Аверченко шутил. Нарвцы это так и поняли. Кто-то прислал оттуда ответную полемическую статью, но и она тоже была не злобной, а веселой. Редакция не поместила ее, не желая длить полемику между нашим гостем и городом, взыскавшим все же совершенно законный налог.
Во всяком случае, турне по Эстонии для него не было утомительным. Для него эта неделя прошла незаметно. Его не беспокоили, к нему не стучались, ему не надоедали. Но вообще эта новая профессия, временная профессия актера, для него была тяжела.
Всю свою жизнь Аверченко провел независимо, оставаясь вольной птицей, издатель и редактор собственного журнала, широко расходившегося, приносившего большие и легкие деньги. Как страстно ни любил Аверченко театр, крепко связанный с ним многоразличными узами автора, зрителя, друга, доля кочующего актера была не по нем и не для него.
Перед началом первого спектакля я зашел к нему в уборную. Он был почти готов к выходу и стоял перед зеркалом. На нем был чудесно сшитый фрак. Когда я ему об этом сказал, он с улыбкой, поправив свое неизменное пенсне, ответил:
— Да, все воспоминания прошлого хороши. Теперь уж такого не сшить.
И вот тут, в эти короткие минуты, оставшиеся до поднятия занавеса, он пожаловался мне на свою актерскую тяготу. Ему были неприятны эти однообразные повторения одних и тех же пьес, эти переезды, упаковки и распаковки чемоданов, номера гостиниц, афиши, хождения за визами. Особенно надоедало играть свои собственные вещи.
Последний раз мы пообедали в «Золотом льве», там же, где он остановился. Все было уже уложено. Чемоданы стояли внизу, в передней. Поезд отходил в шесть вечера.
Мы поехали на вокзал и там простились.
Смеясь, он, между прочим, сказал мне:
— Лучший некролог о тебе напишу я. — И шутливо прибавил: — Вот увидишь.
— Подожди меня хоронить, — ответил я. — Мы еще увидимся.
Но увидеться было не суждено, и некролог пришлось писать не ему обо мне, а мне о нем.
Сейчас я смотрю на его карточку. Сильная кисть правой руки, чуть-чуть собранная в полукулак, уперлась в подбородок. Сквозь пенсне без шнурка смотрят задумчивые, добрые глаза; милая голова милого человека чуть-чуть склонилась вниз. На другой стороне карточки смелая и правдивая надпись, продиктованная верным сердцем.