Арфа и тень - [23]
Я был искренен, когда писал, что эта земля показалась мне самой прекрасной из всех, какие видел глаз человечий. Она была крепка, высока, надежна, разнообразна, словно изваяна из глубин, более зеленым-зелена, более пространна, с пальмами, уходящими более вверх, с ручьями более полноводными, с вершинами более вышними, с теснинами более тесными, чем все виденное доселе на островах, что были для меня, признаюсь, словно сумасшедшие острова, странствующие, лунатические, чуждые картам и понятиям, на которых я вскормлен. Надобно было описать новую эту землю. Но, приступив к этому, я оказался охвачен растерянностью человека, вынужденного именовать вещи, совершенно отличные от всех известных, – вещи, какие должны иметь имя, ибо ничто безымянное не может быть представлено людьми, но имена эти были мною незнаемы, и не был я новым Адамом, избранным своим Создателем, чтоб давать имена вещам. Я мог бы выдумать слова, конечно; но слово само не показывает вещь, если вещь эта неизвестна была заранее. Чтоб увидеть стол, когда кто-то скажет стол, необходимо, чтоб была в слушающем идея – стол, со своими соответствующими атрибутами столовства. Но здесь, пред великолепным пейзажем, который расстилался предо мною, только лишь слово пальма имело силу изображения, ибо пальмы есть в Африке, пальмы – хоть и не такие, как тут, – есть во многих местах, и потому слово пальма сопутствуемо зримым образом – и особенно для тех, кто знает по своей религии, что означает Воскресенье Ветвей, Вербное Воскресенье, названное по пальмовым или вербным ветвям, какими народ встречал Христа. В воскресный день прибыли мы сюда, и мое описательное перо замерло при попытке сдвинуться с места после шести букв пальмы. Быть может, ритор, владеющий кастильским свободнее, чем я, поэт, быть может, употребляющий сравнения и метафоры, пошли бы дальше, сумев описать то, что я описать не мог, – все эти деревья с перепутанной листвой, чьи очертанья были мне неизвестны; вот это, чьи листья с изнанки серые, с лица зеленые, а когда падают и сохнут, скрючиваются круто, как рука, ищущая, за что ухватиться; а вот другое, красноватое, чей ствол сбрасывает прозрачные чешуйки, как змеи, меняющие кожу; а вон там еще одно, одинокое и огромное, посреди небольшой равнины, со своими ветвями, что тянутся от него горизонтально во все стороны, словно капителью, вверху толстого ствола, ощетиненного шипами, являющее вид важный, как ростральная колонна… И плоды: вот этот с бурой кожурой и алой мякотью, чье семя словно выточено из красного дерева; и другой, с фиолетовой пульпой, чьи косточки заключены в студенистые облатки; тот крупнее, этот мельче, ни один не похож на соседа, с плотью белой, душистой, кисловатой и сладковатой, всегда свежие и сочные в нестерпимом зное полудня… Все ново, странно, влекуще, несмотря на свою странность; но ничего особенно полезного до сего дня. Ни Дон Мускат, ни Дон Перец, ни Донья Корица, ни Дон Кардамон что-то ниоткуда не показывались. Что же касается золота, то ведь говорили, его здесь много. И мне казалось, что уж пора объявиться божественному металлу, ибо теперь, когда доказано было его присутствие на этих островах, новая проблема обрушилась на меня: три мои каравеллы означали долг в два миллиона. Не очень тревожил меня миллион банкира Сантанхеля, поскольку короли платят свои долги как могут и когда могут, а что касается драгоценностей Колумбы, то это были драгоценности, извлеченные со дна ларца, и очень хитро поступила она, умевшая, когда захочет, быть смелее любого мужчины, не выкупая их до сих пор, а тем более в дни, когда евреи собирали свои пожитки. Но оставался второй миллион: тот, что дали генуэзцы из Севильи, которые меня со свету сживут, если я вернусь отсюда с пустыми руками… Поэтому дадим время самому времени: «Сия земля есть самая прекрасная из всех, какие видел глаз человечий…» – и так станем продолжать, настроясь на стиль эпиталамы. Что ж касается пейзажа, то я зря ломаю себе голову: скажу, что голубые горы, что видятся вдалеке, – совсем как горы Сицилии, хотя они ни капельки не похожи на горы Сицилии; что травы столь же высоки, как травы Андалусии в апреле и мае, хотя здесь ничто не похоже на что-либо андалусское. Скажу, что поют соловьи там, где посвистывают какие-то серые птички, с клювом длинным и черным, скорей уж похожие на воробьев. Буду говорить о полях Кастилии здесь, где ничто, ну просто ничто не напоминает поля Кастилии. Я не видел растений, дающих пряности, но предскажу, что здесь обязательно обнаружатся пряности. Буду говорить о золотых месторождениях там, где не слыхал ни об одном. Буду говорить о жемчужинах, о множестве жемчужин, потому лишь, что видел несколько съедобных ракушек, «указующих на их присутствие». Одно только я сказал как есть: что здесь собаки, сдается, не лают. Но собаками, которые даже не умеют лаять, я не смогу выплатить миллион, который должен проклятым генуэзцам из Севильи, способным родную мать сослать на галеры за долг в какие-нибудь пятьдесят мараведи. И самое плохое, что я не имею ни малейшего представления, где мы находимся; эта земля по имени Кобла, или Куба, одинаково может оказаться как южной оконечностью Винланда, так и западным побережьем Сипанго – не забудем к тому же, что Индий три. Я считаю, что это континент, твердая земля бескрайной протяженности. Хуан де ла Коса – всегда другого мнения, ибо достаточно мне что-нибудь сказать, как он уже против, уверяет, – что это остров. Не знаю, что и думать. Но я говорю, что это континент – и довольно. Я – Адмирал и знаю, что говорю. Другой советует измерить его округлость, и я говорю, что, раз нет острова, нет и округлостей. И к дьяволу… Хватит!… Я снова беру перо и продолжаю составлять мой Реестр Добрых Новостей, мой Каталог Блистательных Предвидений. Я ручаюсь – самому себе ручаюсь, – что очень скоро предстанет мне Великий Хан своей собственной персоной (эти слова
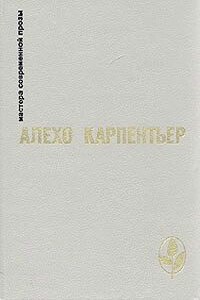
Роман «Царство земное» рассказывает о революции на Гаити в конце 18-го – начале 19 века и мифологической стихии, присущей сознанию негров. В нем Карпентьер открывает «чудесную реальность» Латинской Америки, подлинный мир народной жизни, где чудо порождается на каждом шагу мифологизированным сознанием народа. И эта народная фантастика, хранящая тепло родового бытия, красоту и гармонию народного идеала, противостоит вымороченному и бесплодному «чуду», порожденному сознанием, бегущим в иррациональный хаос.

Сборник включает в себя наиболее значительные рассказы кубинских писателей XX века. В них показаны тяжелое прошлое, героическая революционная борьба нескольких поколений кубинцев за свое социальное и национальное освобождение, сегодняшний день республики.
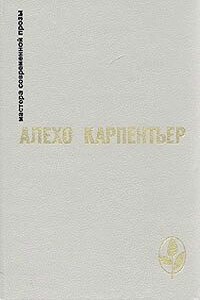
В романе «Век Просвещения» грохот времени отдается стуком дверного молотка в дом, где в Гаване конца XVIII в., в век Просвещения, живут трое молодых людей: Эстебан, София и Карлос; это настойчивый зов времени пробуждает их и вводит в жестокую реальность Великой Перемены, наступающей в мире. Перед нами снова Театр Истории, снова перед нами события времен Великой французской революции…

В романе «Превратности метода» выдающийся кубинский писатель Алехо Карпентьер (1904−1980) сатирически отражает многие события жизни Латинской Америки последних десятилетий двадцатого века.Двадцатидвухлетнего журналиста Алехо Карпентьера Бальмонта, обвиненного в причастности к «коммунистическому заговору» 9 июля 1927 года реакционная диктатура генерала Мачадо господствовавшая тогда на Кубе, арестовала и бросила в тюрьму. И в ту пору, конечно, никому — в том числе, вероятно, и самому Алехо — не приходила мысль на ум, что именно в камере гаванской тюрьмы Прадо «родится» романист, который впоследствии своими произведениями завоюет мировую славу.
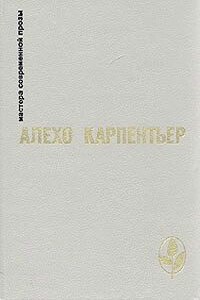
Повесть «Концерт барокко» — одно из самых блистательных произведений Карпентьера, обобщающее новое видение истории и новое ощущение времени. Название произведения составлено из основных понятий карпентьеровской теории: концерт — это музыкально-театральное действо на сюжет Истории; барокко — это, как говорил Карпентьер, «способ преобразования материи», то есть форма реализации и художественного воплощения Истории. Герои являются символами-масками культур (Хозяин — Мексика, Слуга, негр Филомено, — Куба), а их путешествие из Мексики через Гавану в Европу воплощает развитие во времени человеческой культуры, увиденной с «американской» и теперь уже универсальной точки зрения.

Сборник посвящается 30–летию Революционных вооруженных сил Республики Куба. В него входят повести, рассказы, стихи современных кубинских писателей, в которых прослеживается боевой путь защитников острова Свободы.
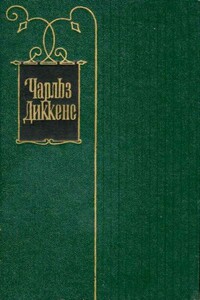
Роман повествует о жизни семьи юноши Николаса Никльби, которая, после потери отца семейства, была вынуждена просить помощи у бесчестного и коварного дяди Ральфа. Последний разбивает семью, отослав Николаса учительствовать в отдаленную сельскую школу-приют для мальчиков, а его сестру Кейт собирается по собственному почину выдать замуж. Возмущенный жестокими порядками и обращением с воспитанниками в школе, юноша сбегает оттуда в компании мальчика-беспризорника. Так начинается противостояние между отважным Николасом и его жестоким дядей Ральфом.
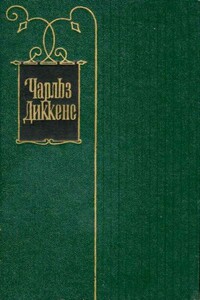
«Посмертные записки Пиквикского клуба» — первый роман английского писателя Чарльза Диккенса, впервые выпущенный издательством «Чепмен и Холл» в 1836 — 1837 годах. Вместо того чтобы по предложению издателя Уильяма Холла писать сопроводительный текст к серии картинок художника-иллюстратора Роберта Сеймура, Диккенс создал роман о клубе путешествующих по Англии и наблюдающих «человеческую природу». Такой замысел позволил писателю изобразить в своем произведении нравы старой Англии и многообразие (темпераментов) в традиции Бена Джонсона. Образ мистера Пиквика, обаятельного нелепого чудака, давно приобрел литературное бессмертие наравне с Дон Кихотом, Тартюфом и Хлестаковым.
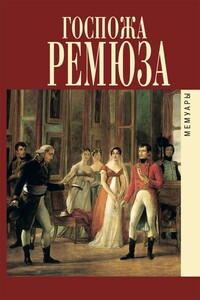
Один из трех самых знаменитых (наряду с воспоминаниями госпожи де Сталь и герцогини Абрантес) женских мемуаров о Наполеоне принадлежит перу фрейлины императрицы Жозефины. Мемуары госпожи Ремюза вышли в свет в конце семидесятых годов XIX века. Они сразу возбудили сильный интерес и выдержали целый ряд изданий. Этот интерес объясняется как незаурядным талантом автора, так и эпохой, которая изображается в мемуарах. Госпожа Ремюза была придворной дамой при дворе Жозефины, и мемуары посвящены периоду с 1802-го до 1808 года, т. е.

«Замок Альберта, или Движущийся скелет» — одно из самых популярных в свое время произведений английской готики, насыщенное мрачными замками, монастырями, роковыми страстями, убийствами и даже нотками черного юмора. Русский перевод «Замка Альберта» переиздается нами впервые за два с лишним века.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

Горящий светильник» (1907) — один из лучших авторских сборников знаменитого американского писателя О. Генри (1862-1910), в котором с большим мастерством и теплом выписаны образы простых жителей Нью-Йорка — клерков, продавцов, безработных, домохозяек, бродяг… Огромный город пытается подмять их под себя, подчинить строгим законам, убить в них искреннюю любовь и внушить, что в жизни лишь деньги играют роль. И герои сборника, каждый по-своему, пытаются противостоять этому и остаться самим собой. Рассказ впервые опубликован в 1904 г.