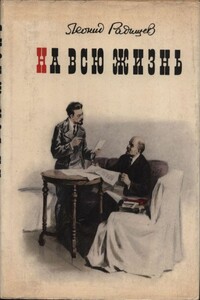Аппетит - [7]
Но мне велели: «Ешь!» Я сгорбился и взял ложку – неохотно, поскольку гладкий коровий рог имел унылый плесневый привкус хлева и старых ногтей с ног, как бы часто его ни мыли. Для себя мама положила ложку из оливы. Повинуясь внезапному порыву, я схватил эту ложку и, чтобы избежать нагоняя, поспешно зачерпнул немного похлебки и сунул в рот. Все вкусы выстроились в ряд – армия, разобравшаяся по рангам: очищенный молотый миндаль, цветы бузины, хлеб, сахар, буйный жар имбиря. Мне трудно вспомнить точно, оглядываясь в прошлое, что́ ложка такой смеси должна была со мной сотворить, однако, думаю, она рассказала бы какую-нибудь маленькую, но многослойную историю. Или, возможно, я увидел бы что-то вроде резной слоновой кости вместо всех этих белых ингредиентов: миндаля, хлеба, цветов, сахара. Что-то столь же очевидное, как огонь в имбире, либо менее очевидное: нагретый солнцем кирпич или петушиный гребень.
Однако я помню, что с этой конкретной миской супа ничего подобного не случилось. Я ощутил… миндаль. Я по-прежнему видел его мысленным взором, как яркую зелень, но каким-то образом он не застил весь мир. Зато я подумал: «В этом есть миндаль. Миндаль – это орех. Он растет на дереве». На дереве с белыми сладкими цветами, конечно же, – и вот сам орех, таящийся внутри шероховатой деревянной скорлупы. Я обнаружил, что смакую молочную горечь ядер миндаля, отмечая, как сахар словно плывет над нею, не уничтожая, но создавая отдельный вкус. Имбирь и цветы бузины пали в объятия друг друга, и все четыре компонента погрузились в умиротворяющую пресность размоченного хлеба. К изумлению своему, я обнаружил, что могу удерживать каждый гремящий вкус, со всеми его красками, на месте и при этом замечать другие вкусы, каждый со своим собственным цветом и образом. Я снова окунул ложку в суп, попробовал, глотнул. Еще одна ложка, потом еще. Вкусы не исчезали в никуда, они становились частью меня.
– Тебе нравится, дорогой? – ошеломленно спросила мама.
– Они входят в меня, – сообщил я с удивлением.
– Кто?
– Все вкусы. Они не просто падают вниз и пропадают внутри. Я как будто птичья клетка, а они птицы.
– Хм… Звучит не очень приятно.
– Нет, это приятно! – Я черпнул еще. – Это красивые птички, и так они никуда не улетят.
Становился я птичьей клеткой, или хрустальным кубком, или любой другой штуковиной из тех, что приходили мне на ум в последующие пару дней, но я начал нормально есть и вскоре стал выглядеть как все прочие дети, а не как маленький бродяжка, едва переживший осаду. Я заметил, что от разной еды у меня разные ощущения в теле. Это никогда не приходило мне в голову раньше: я-то думал, еда проделывала всякие штуки только у меня в голове. Меня сильно потянуло к некоторым вещам: сахарным, молочным конфетам, пережаренному мясу, лимонной цедре. Затем я начал наблюдать за мамой и Каренцей, когда они готовили, – как две женщины работают вместе, тихо спорят над едой, смеются. Мама была невысокой и тонкокостной, с довольно длинным лицом и огромными зелеными глазами. Она скромно прятала свои каштановые волосы под чепцом из тонкого льна, и при взгляде на нее можно было подумать, что это простая, недалекая, приземленная женщина, но, как и ее брат, она воспринимала мир обостренно, более тонкими чувствами. Каренца больше чем на голову возвышалась над мамой. Она была дочерью кожевника из трущоб Сан-Фредиано, с соответствующим языком, который не всегда держала за зубами. Все, что в маме было тонким и легким, у Каренцы выглядело тяжелым: густые курчавые черные волосы, рано начавшие седеть, черные брови, мочки ушей, оттянутые большими золотыми кольцами. Ее руки по силе не уступали ее же акценту, а когда повариха двигалась по кухне, попадаться ей на пути не стоило. Но грубо высеченное лицо Каренцы с квадратной челюстью могло когда-то быть красивым, а сердце ей досталось такое же доброе, как у мамы. Увидев их вместе, вы могли на мгновение подумать, что это сестры склонились в клубах пара над горшком и пререкаются из-за приправ.
Однажды мне позволили смешивать ингредиенты для фарша на сосиски, и сама по себе сырая еда увлекла меня: постная свинина и мягкий белый жир. «Одно говорит с другим, – сказала Каренца. – Без жира постное мясо слишком сухое, а без постного… – она высунула язык, – это уж слишком». Я потер сыра: сухого пекорино, который долгие месяцы пролежал в кладовой, и немного свежего марцолино, попробовав оба. Туда же отправился мускатный орех, и корица, и черный перец. «Сколько соли?» Мама показала мне по своей ладони. «Давай насыплю в миску». Потом она вбила в смесь несколько яиц.
«Это мой секрет, – сказала она и потерла апельсиновую цедру так, что крошки покрыли все тонким слоем золота. – Нино, хочешь перемешать?»
Чуть не хохоча от возбуждения, я запустил пальцы в холодную шелковистость яиц, чувствуя, как лопаются желтки, потом погрузил кулаки глубоко в мясо. Я чувствовал запах апельсинов, свинины, сыра, специй, а потом они начали переплавляться во что-то иное. Когда все перемешалось, я облизнул пальцы, хотя Каренца шлепком отбросила мою руку ото рта, а после этого мы стали набивать смесь в скользкие розовые кишки и приготовили несколько штук для себя, и тогда я открыл, что огонь еще раз изменил вкус сосисок. Чистый, свежий вкус свинины углубился и усилился, а холодная пресность жира сменилась чем-то сочным и маслянистым, в чем прятались пряности и пикантность апельсина. Мне показалось, что совершила это чудо соль, потому что она была повсюду, но в то же время едва заметна. Я снова и снова облизывал пальцы, и если видел, как мама обнимает Каренцу, а ее лицо вспыхивает от облегчения и счастья, то думал: наверное, это оттого, что сосиски получились такими вкусными. И с того дня мне было позволено делать на кухне все, что заблагорассудится.

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)
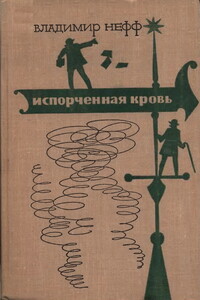
Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.

Начало XVII века. Голландское судно терпит крушение у берегов Японии. Выживших членов экипажа берут в плен и обвиняют в пиратстве. Среди попавших в плен был и англичанин Джон Блэкторн, прекрасно знающий географию, военное дело и математику и обладающий сильным характером. Их судьбу должен решить местный правитель, прибытие которого ожидает вся деревня. Слухи о талантливом капитане доходят до князя Торанага-но Миновара, одного из самых могущественных людей Японии. Торанага берет Блэкторна под свою защиту, лелея коварные планы использовать его знания в борьбе за власть.

Впервые на русском – новейшая книга автора таких международных бестселлеров, как «Шантарам» и «Тень горы», двухтомной исповеди человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть. «Это поразительный читательский опыт – по крайней мере, я был поражен до глубины души», – писал Джонни Депп. «Духовный путь» – это поэтапное описание процесса поиска Духовной Реальности, постижения Совершенства, Любви и Веры. Итак, слово – автору: «В каждом человеке заключена духовность. Каждый идет по своему духовному Пути.

Джеймс Джойс (1882–1941) — великий ирландский писатель, классик и одновременно разрушитель классики с ее канонами, человек, которому более, чем кому-либо, обязаны своим рождением новые литературные школы и направления XX века. Роман «Улисс» (1922) — главное произведение писателя, определившее пути развития искусства прозы и не раз признанное лучшим, значительнейшим романом за всю историю этого жанра. По замыслу автора, «Улисс» — рассказ об одном дне, прожитом одним обывателем из одного некрупного европейского городка, — вместил в себя всю литературу со всеми ее стилями и техниками письма и выразил все, что искусство способно сказать о человеке.
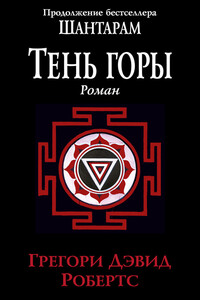
Впервые на русском – долгожданное продолжение одного из самых поразительных романов начала XXI века.«Шантарам» – это была преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, разошедшаяся по миру тиражом четыре миллиона экземпляров (из них полмиллиона – в России) и заслужившая восторженные сравнения с произведениями лучших писателей нового времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Маститый Джонатан Кэрролл писал: «Человек, которого „Шантарам“ не тронет до глубины души, либо не имеет сердца, либо мертв… „Шантарам“ – „Тысяча и одна ночь“ нашего века.