Апельсины - [3]
— Пожалуйте сюда!
У Брона сильно забилось сердце, и через два шага его ввели в другую камеру, где стоял небольшой столик, покрытый газетной бумагой, а у столика сидел жандармский ротмистр, молодой человек с сытым, бледным лицом и сильно развитой нижней челюстью. Брон вошел и неловко остановился среди камеры. Маленькие глаза ротмистра скучающе скользнули по нем, и Брону показалось, что ротмистр подавил усмешку. Брон вспыхнул и повернулся к двери.
VII
В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми, растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно-крепко пожал протянутую ему руку.
— Ну, вот… здравствуйте! — сказал он, кашлянув. — Ну, как здоровы? — поспешил он добавить, чувствуя, что предательски краснеет.
— Прошу сесть, господа! — раздался скрипучий голос ротмистра, и Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села, а на столе между ними протянулись пухлые, белые руки ротмистра. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно, с отчаянием придумывал тему для разговора. Мысли его вертелись с ужасающей быстротой, и одна из них била его по нервам:
«Я сижу тупо, как дурак! — Как дурак! — Как дурак!»
— Ну, говорите же что-нибудь, — тихо сказала девушка и виновато улыбнулась. Голос у нее был слабый, грудной. — Ужасно это, как мало дают свидания. Пять минут… Вон в предварилке, говорят, больше…
— Да, там больше, — согласился Брон значительным тоном. — Там десять минут дают…
И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы пять минут уже кончились.
— Я очень торопилась сюда, — продолжала девушка. — Мне надо еще поспеть в одно место… А здесь ждала — час… или нет? Полтора часа…
— Спасибо, что пришли, — сказал Брон деревянным голосом. — Очень скучно сидеть… — «Что же это я жалуюсь?» — внутренно нахмурился он. — А вы… как?
— Я? — рассеянно протянула девушка. — Да все так же…
Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга. И обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок, побарабанил пальцами по столу и, с треском открыв огромные часы, сказал, поднимаясь:
— Свидание кончено… Кончайте, господа!..
Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой, враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге еще раз обернулась и торопливо бросила:
— Я приду в четверг… А вы не скучайте.
Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором… Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, схоронивший за железными прутьями столько прекрасных душ… Может быть также… — Все может быть.
Брон медленно поднимался по лестнице к «своему» коридору и «своей» камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, уличенному в дурном поступке, хотя он и сам не знал — отчего это… И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, — двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого…
Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий, возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона…
ПРИМЕЧАНИЯ
Апельсины. Впервые — в газете «Биржевые ведомости», утр. вып., 1907, 24 июня (7 июля).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Александр Грин создал в своих произведениях свой особенный мир. В этом мире веет ветер дальних странствий, его населяют добрые, смелые, веселые люди. А в залитых солнцем гаванях с романтическими названиями – Лисс, Зурбаган, Гель-Гью – прекрасные девушки поджидают своих женихов. В этот мир – чуть приподнятый над нашим, одновременно фантастический и реальный, мы и приглашаем читателей.
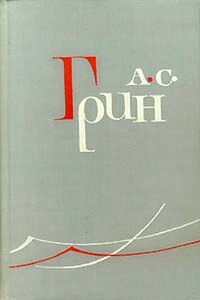
В марте 1915 года в маленьком бельгийском городке Сен-Жан, почти сплошь разрушенном немцами и почти совершенно опустевшем, появился путник. Он искал ночлег…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Двое молодых людей – он и она, сошли с парохода, потерпевшего крушение. Оба спешат в Зурбаган. (Она – к больному отцу. Он – бежал из тюрьмы, куда попал из-за любимой им женщины.) Они покупают одну лодку на двоих, и начинается психологический поединок сердец…© FantLab.ru.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.
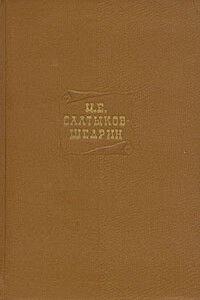
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».
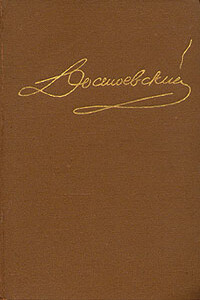
В Тринадцатом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1876 год.http://ruslit.traumlibrary.net.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.