Анри Барбюс - [86]
Очень белая и светлая комната. Эта белизна, этот цвет пугают. Профессора, врачи… Процедуры, осмотры, консилиумы…
И ни на минуту он не сдавался на милость болезни. Только какое-то обостренное нетерпение заставляло его все время требовать сообщений о том, что делается в мире.
Ему читали «Юманите» и обзоры, которые делал Степан. Ежедневно действовала связь с Парижем, передавались указания сотрудникам «Монд» и в Комитет борьбы против войны и фашизма.
Его продолжает беспокоить абиссинский вопрос. В одну из тяжелых, очень тяжелых ночей, трудно дыша, он сказал:
— Мы быстро шагаем к войне. Абиссиния, она может сыграть в этом большую роль… Это очень серьезно…
Он продолжал думать о расширении связей Комитета, особенно в Англии. Призрак войны мучил его до последнего часа.
Он был выбит из седла. Но пока работал его мозг, он не мог не думать об этом.
Ему делали уколы, он забывался.
— Как вы заботитесь обо мне, — сказал он молоденькой медицинской сестре и ласково провел рут кой по ее лицу. Рука его была слабой, и движения ее неуверенны, как у слепого.
О здоровье Барбюса справлялось множество людей. Непрерывно звонил правительственный телефон.
У подъезда «Кремлевки» волновалась стайка школьников. В редакциях газет повторяли сообщения врачей.
В квартире Соловьевых, на улице Грановского, стояла тревожная, зыбкая тишина. Из окон квартиры было видно здание больницы. Окно палаты Барбюса выходило на улицу Грановского. Аннет ставила на окно настольную лампу. Это был знак, что ночь проходит благополучно. Больше всего боялись ночей — они были особенно трудными. С наступлением вечера Соловьевы приникали к окнам. Они ловили слабый желтоватый свет, сочащийся из окна напротив.
В ночь на 30 августа Вава Соловьева проснулась на рассвете. Она тотчас посмотрела на окно Барбюса. Лампа была на месте. В раннем свете дня желтоватый огонек был немощен, как лампада.
Вава уснула и снова проснулась. Стояло уже утро. Но лампа на окне палаты все еще горела. Это испугало ее. В страшном смятении она стала поспешно одеваться. В подъезде она столкнулась с рыдающей Аннет.
…В эту ночь Барбюс не спал. Изнемогший, уже почти сраженный, он еще боролся. Он был во власти привычных мыслей.
За несколько минут до конца он сказал:
— Мне осталось уже немного, телефонируйте в Париж. Надо спасать мир.
Это была его последняя мысль, последние слова, которые произнес Великий Голос. 30 августа в 8.55 он умолк навеки.
…Три дня москвичи проходили у гроба в Большом зале консерватории. Они провожали Барбюса в последний путь сурово и торжественно, как солдата. Как брата, оплакивали его. И красный галстук пионеров Артека лежал на крышке гроба.
Тело Барбюса было доставлено в Париж. 7 сентября, в день похорон, было тепло и солнечно. Сотни тысяч людей шли за гробом, осененным пурпуром знамен. Шли ветераны, шли инвалиды войны. Их лица навеки сохранили следы огня, опалившего их. Безногие ехали на колясках, безрукие обнажали обрубки, выставляя напоказ свои увечья как напоминание и угрозу.
Парижская полиция запретила плакаты с призывами к борьбе, но толпа несла транспаранты со строками Барбюса, и эти строки кричали, взывали, требовали и воодушевляли. За траурной колесницей шли девушки, они несли на алых шелковых подушках книги Барбюса, как несут за гробом ордена.
Процессия двигалась к кладбищу Пер-Лашез, растянувшись на пять километров. Со времени похорон Виктора Гюго Париж не видел такого скорбного и торжественного зрелища, такой печальной и грозной толпы, идущей за гробом глашатая и солдата.
Траурная колесница казалась лафетом орудия, на котором лежало осыпанное цветами тело победителя. Он был мертв, но он был Победителем.
В 1932 году Барбюс закончил книгу «Золя».
Ее завершала глава «Золя в 1932 году», и она начиналась так: «А мы? В эти дни гибели старого общества, агонии старой международной империи жизнь Золя звучит определенным призывом».
Мы позволим себе закончить свое повествование вопросом: «А Барбюс сегодня? Барбюс для людей второй половины XX века, века покорения космоса, века коммунизма. Барбюс для нас?»
Был такой год: оттолкнувшись от вековых устоев, опережая время, наша страна взмыла в будущее. Одна. Стремительная, как спутник. Одинокая, как спутник. Небывалая, как спутник. В чужом, холодном, грозном пространстве.
И зашипели все ужи мира. Загрохотали пушки Круппа и Шнейдера. Оружие четырнадцати государств сверкнуло под скупым солнцем севера и под жаркими лучами юга.
Тогда в защиту Страны-спутника поднялись лучшие сыны планеты. Среди них был человек по имени Анри Барбюс. Он призывал к ответу палачей молодой Республики Советов, и голос его был страшен для врагов. Он плакал от счастья, читая телеграммы о разгроме интервентов отрядами молодой армий рабочих и крестьян.
С тех пор, где бы в мире ни развевалось красное знамя, бессменным его часовым стоял Анри Барбюс. Где бы в мире ни подымали змеиную голову реакция и фашизм, бесстрашный рыцарь революции направлял туда своего коня. Где бы ни вставали против угнетателей пролетарии, в первой шеренге видели его высокую, чуть согбенную фигуру. Он был с борющимися рабочими. Он шел впереди.
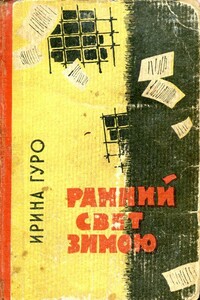
В апрельскую ночь 1906 года из арестного дома в Москве бежали тринадцать политических. Среди них был бывший руководитель забайкальских искровцев. Еще многие годы он будет скрываться от царских ищеек, жить по чужим паспортам.События в книге «Ранний свет зимою» (прежнее ее название — «Путь сибирский дальний») предшествуют всему этому. Книга рассказывает о времени, когда борьба только начиналась. Это повесть о том, как рабочие Сибири готовились к вооруженному выступлению, о юности и опасной подпольной работе одного из старейших деятелей большевистской партии — Емельяна Ярославского.
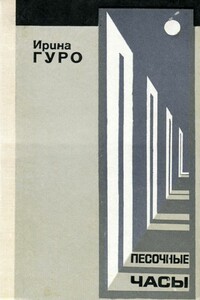
Ирина Гуро, лауреат литературной премии им. Николая Островского, известна как автор романов «Дорога на Рюбецаль», «И мера в руке его…», «Невидимый всадник», «Ольховая аллея», многих повестей и рассказов. Книги Ирины Гуро издавались на языках народов СССР и за рубежом.В новом романе «Песочные часы» писательница остается верна интернациональной теме. Она рассказывает о борьбе немецких антифашистов в годы войны. В центре повествования — сложная судьба юноши Рудольфа Шерера, скрывающегося под именем Вальтера Занга, одного из бойцов невидимого фронта Сопротивления.Рабочие и бюргеры, правители третьего рейха и его «теоретики», мелкие лавочники, солдаты и полицейские, — такова широкая «периферия» романа.
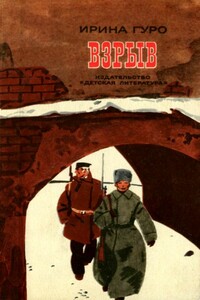
Повесть о замечательном большевике-ленинце, секретаре Московского комитета партии В. М. Загорском (1883–1919). В. М. Загорский погиб 25 сентября 1919 года во время взрыва бомбы, брошенной врагами Советского государства в помещение Московского комитета партии.
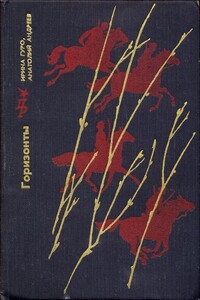
Широкому читателю известны романы Ирины Гуро: «И мера в руке его…», «Невидимый всадник», «Песочные часы» и другие. Многие из них переиздавались, переводились в союзных республиках и за рубежом. Книга «Дорога на Рюбецаль» отмечена литературной премией имени Николая Островского.В серии «Пламенные революционеры» издана повесть Ирины Гуро «Ольховая аллея» о Кларе Цеткин, хорошо встреченная читателями и прессой.Анатолий Андреев — переводчик и публицист, автор статей по современным политическим проблемам, а также переводов художественной прозы и публицистики с украинского, белорусского, польского и немецкого языков.Книга Ирины Гуро и Анатолия Андреева «Горизонты» посвящена известному деятелю КПСС Станиславу Викентьевичу Косиору.
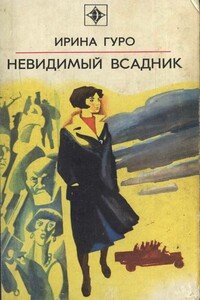
Роман посвящен комсомолу, молодежи 20—30-х годов. Героиня романа комсомолка Тая Смолокурова избрала нелегкую профессию — стала работником следственных органов. Множество сложных проблем, запутанных дел заставляет ее с огромной мерой ответственности относиться к выбранному ею делу.
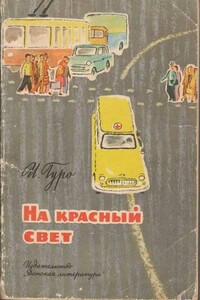
Почему четыре этих рассказа поставлены рядом, почему они собраны здесь вместе, под одной обложкой?..Ты стоишь вечером на людном перекрестке. Присмотрись: вот светофор мигнул желтым кошачьим глазом. Предостерегающий багровый отблеск лег на вдруг опустевший асфальт.Красный свет!.. Строй машин дрогнул, выровнялся и как бы перевел дыхание.И вдруг стремительно, словно отталкиваясь от земли длинным и упругим телом, большая белая машина ринулась на красный свет. Из всех машин — только она одна. Луч прожектора, укрепленного у нее над ветровым стеклом, разрезал темноту переулка.
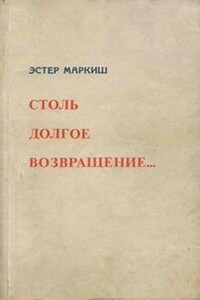
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Великого князя не любили, он не был злой человек, но в нём было всё то, что русская натура ненавидит в немце — грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство — доходившее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая сама вечно навеселе, не могла ему однако простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский — что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин за его фельдфебельские манеры; гвардия за то, что он ей предпочитал своих гольштинских солдат; дамы за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви».Издание 1903 года, текст приведен к современной орфографии.

В 1783, в Европе возгорелась война между Турцией и Россией. Граф Рожер тайно уехал из Франции и через несколько месяцев прибыл в Елисаветград, к принцу де Линь, который был тогда комиссаром Венского двора при русской армии. Князь де Линь принял его весьма ласково и помог ему вступить в русскую службу. После весьма удачного исполнения первого поручения, данного ему князем Нассау-Зигеном, граф Дама получил от императрицы Екатерины II Георгиевский крест и золотую шпагу с надписью «За храбрость».При осаде Очакова он был адъютантом князя Потёмкина; по окончании кампании, приехал в Санкт-Петербург, был представлен императрице и награждён чином полковника, в котором снова был в кампании 1789 года, кончившейся взятием Бендер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.