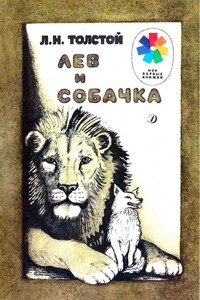Анна Каренина - [324]
Он вспомнил, что уже успел рассердиться на Ивана, выказать холодность брату и легкомысленно поговорить с Катавасовым.
«Неужели это было только минутное настроение, и оно пройдет, не оставив следа?» – подумал он.
Но в ту же минуту, вернувшись к своему настроению, он с радостью почувствовал, что что-то новое и важное произошло в нем. Действительность только на время застилала то душевное спокойствие, которое он нашел; но оно было цело в нем.
Точно так же, как пчелы, теперь вившиеся вокруг него, угрожавшие ему и развлекавшие его, лишали его полного физического спокойствия, заставляли его сжиматься, избегая их, так точно заботы, обступив его с той минуты, как он сел в тележку, лишали его свободы душевной; но это продолжалось только до тех пор, пока он был среди них. Как, несмотря на пчел, телесная сила была вся цела в нем, так и цела была вновь созданная им его духовная сила.
XV
– А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович ехал сюда? – сказала Долли, оделив детей огурцами и медом. – С Вронским! Он едет в Сербию.
– Да еще не один, а эскадрон ведет на свой счет! – сказал Катавасов.
– Это ему идет, – сказал Левин. – А разве всё идут еще добровольцы? – прибавил он, взглянув на Сергея Ивановича.
Сергей Иванович, не отвечая, осторожно вынимал ножом-тупиком из чашки, в которой лежал углом белый сот меду, влипшую в подтекший мед живую еще пчелу.
– Да еще как! Вы бы видели, что вчера было на станции! – сказал Катавасов, звонко перекусывая огурец.
– Ну, это-то как понять? Ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют? – спросил старый князь, очевидно продолжая разговор, начавшийся еще без Левина.
– С турками, – спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович, выпроставший беспомощно двигавшую ножками, почерневшую от меда пчелу и ссаживая ее с ножа на крепкий осиновый листок.
– Но кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?
– Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им, – сказал Сергей Иванович.
– Но князь говорит не о помощи, – сказал Левин, заступаясь за тестя, – а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительств.
– Костя, смотри, это пчела! Право, нас искусают! – сказала Долли, отмахиваясь от осы.
– Да это и не пчела, это оса, – сказал Левин.
– Ну-с, ну-с, какая ваша теория? – сказал с улыбкой Катавасов Левину, очевидно вызывая его на спор. – Почему частные люди не имеют права?
– Да моя теория та: война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое, ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке и по здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли.
Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время.
– В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, – сказал Катавасов.
Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения. Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое:
– Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы.
– Но не убил бы, – сказал Левин.
– Нет, ты бы убил.
– Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; но вперед сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть.
– Может быть, для тебя нет. Но для других оно есть, – недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович. – В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых агарян». Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил.
– Может быть, – уклончиво сказал Левин, – но я не вижу этого; я сам народ, и я не чувствую этого.
– Вот и я, – сказал князь. – Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую? Я очень огорчался, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился, вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями славянами. Вот и Константин.
– Личные мнения тут ничего не значат, – сказал Сергей Иваныч, – нет дела до личных мнений, когда вся Россия – народ выразил свою волю.
– Да извините меня. Я этого не вижу. Народ и знать не знает, – сказал князь.
– Нет, папа… как же нет? А в воскресенье в церкви? – сказала Долли, прислушиваясь к разговору. – Дай, пожалуйста, полотенце, – сказала она старику, с улыбкой смотревшему на детей. – Уж не может быть, чтобы все…

Рассказы, собранные в этой книге, были написаны великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым (1828–1910) специально для детей. Вот как это было. В те времена народ был безграмотный, школ в городах было мало, а в деревнях их почти не было.Лев Николаевич Толстой устроил в своём имении Ясная Поляна школу для крестьянских детей. А так как учебников тоже не было, Толстой написал их сам.Так появились «Азбука» и «Четыре русские книги для чтения». По ним учились несколько поколений русских детей.Рассказы, которые вы прочтёте в этом издании, взяты из учебных книг Л.

Те, кто никогда не читал "Войну и мир", смогут насладиться первым вариантом этого великого романа; тех же, кто читал, ждет увлекательная возможность сравнить его с "каноническим" текстом. (Николай Толстой)
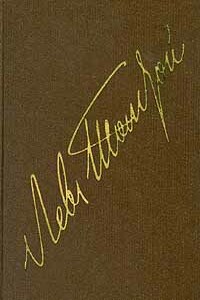
В томе печатается роман «Воскресение» (1889–1899) — последний роман Л. Н. Толстого.http://rulitera.narod.ru.

Детство — Что может быть интереснее и прекраснее открытия мира детскими глазами? Именно они всегда широко открыты, очень внимательны и на редкость проницательны. Поэтому Лев Толстой взглянул вокруг глазами маленького дворянина Николеньки Иртеньева и еще раз показал чистоту и низменность чувств, искренность и ложь, красоту и уродство...
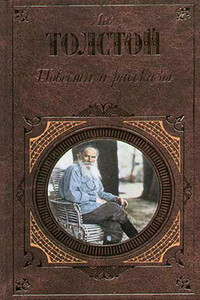
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
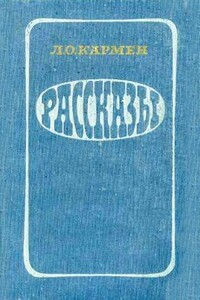
В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват… Его все знали в Одессе, знали и любили». И… забыли?..Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи.
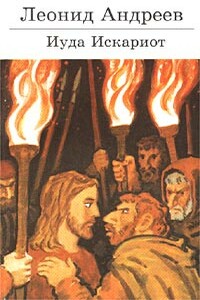
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
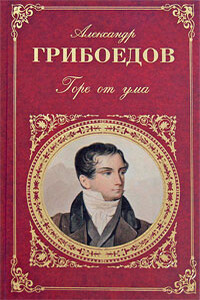
В книгу вошли бессмертная комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума», другие драматические произведения, а также стихотворения, статьи, корреспонденции и путевые записки выдающегося русского драматурга, поэта и дипломата.Содержание сборника:Горе от умаМолодые супругиСтудентОтрывок из комедии «Своя семья, или Замужняя невеста»Притворная неверностьПроба интермедииКто брат, кто сестра, или Обман за обманомСтихотворенияСтатьи, корреспонденции, путевые заметки.

В книгу М.Горького вошли роман «Фома Гордеев» (1899) – драматическая история молодого человека, не нашедшего места в жестоком и неискреннем мире дельцов, «хозяев жизни», а так же известные пьесы «Васса Железнова» (1936), «Егор Булычев и другие» (1932) и повесть «Мои университеты» (1923). Максим Горький: «Женщина иногда может в своего мужа влюбиться».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) – один из наиболее значительных писателей русской советской литературы, лауреат Нобелевской премии 1965 года за роман «Тихий Дон», принесший автору мировую известность.В настоящую книгу вошли рассказы из ранних сборников – «Донские рассказы», «Лазоревая степь», – а также любимые читателями многих поколений рассказы «Нахаленок», «Судьба человека» и главы из романа «Они сражались за Родину» – по этому роману Сергей Бондарчук в 1975 году снял одноименный художественный фильм, ставший безусловным шедевром на все времена.