Анатомия человеческих сообществ - [7]
На этом сложности не заканчиваются. Знание о том, куда человек смотрит, говорит вам и о его психологическом состоянии. Если на столе лежат четыре печенья, а ребенок пристально смотрит на одно из них, как вы думаете, какое именно кажется ему желанным? Какое печенье он возьмет? Для большинства из нас угадать это не составит никакого труда, а вот некоторые аутичные дети испытывают в подобных случаях затруднения и дают случайные ответы. Они уверенно могут сказать, на какое печенье смотрит ребенок. Они также знают, что значит хотеть чего-то. Но связь между взглядом на печенье и желанием его съесть часто остается для них неустановленной[10]. На этом примере мы опосредованно понимаем, что связь между направлением взгляда и намерениями человека представляет собой информационную составляющую, которую необходимо включить в понимание этой сцены. То, что ребенок выбирает печенье, становится информацией, только если у вас имеется подходящая система распознавания.
Конкретный набор таких систем, которыми располагает каждый живой организм, сформировался в ходе эволюции. Мы «с первого взгляда» определяем психологическое состояние других людей, поскольку это в высшей степени полезная способность для вида, выживание которого зависит от постоянного взаимодействия между индивидами. С позиций эволюционного подхода можно предположить, что способность к распознаванию взгляда должна быть и у домашних животных – в зависимости от того, насколько тесно они взаимодействуют с людьми. Это в полной мере относится к собакам, одомашнивание которых происходило в процессе сложного взаимодействия с человеком, в ходе охоты и защиты – двух видов деятельности, в которых понимание намерений человека давало собаке преимущество. А вот шимпанзе способны определять, куда направлен взгляд человека, только после изнурительно долгого обучения, да и то результаты будут не лучшими, потому что в эволюционной истории шимпанзе не было длительного общения с людьми. По той же причине домашние кошки, не вовлеченные в ходе эволюции в сотрудничество и совместное решение задач с людьми, как правило, беспомощны в этом отношении[11].
Повторим: информация возникает лишь в том случае, если у вас имеется соответствующая система ее распознавания, – а она у вас имеется, поскольку она или ее слегка улучшенный вариант подтвердили свое преимущество во многих поколениях ваших предков. Но вот загвоздка: именно по причине того, что эти системы у нас есть и они работают так безотказно и незаметно для нас, их существование нам практически невидимо. Когда мы думаем о способах понимания окружающего мира, нам кажется, что информация уже содержится в нем в готовом виде и ждет, чтобы ее заметили.
Способ мышления, когда мы знаем о найденной информации, но забываем, что для этого требуется ее распознать, называется спонтанным (наивным) реализмом. Мы интуитивно полагаем, что информация только и ждет, чтобы живые организмы ее заметили[12]. Этой иллюзии трудно избежать, когда речь идет о сложных общественных феноменах, таких как определение престижа, красоты или власти. Но даже власть остается невидимой для тех, кто не располагает соответствующей системой распознавания. Казалось бы, не так уж сложно определить, кто в группе пользуется властью, – в конце концов, разве можно не заметить, что одни люди отдают распоряжения другим? Но именно так мы и попадаем в ловушку спонтанного реализма. Разглядеть проявления «руководящего» и «подчиненного» поведения можно только в том случае, если система распознавания замечает связи поведения с выражением предпочтений, соединяет специфические предпочтения с разными людьми, вызывает в памяти соответствующие модели поведения, что, в свою очередь, обуславливает такие предположения, как, например, понятие транзитивности ранга («если А в иерархии стоит выше Б, а Б стоит над В, то А главенствует над В»). У детей интуитивные представления относительно моделей поведения, в которых проявляется доминирование, появляются задолго до того, как они начинают понимать, как это влияет на жизнь людей[13]. Итак, повторим еще раз то, что не требует долгих повторений: не существует информации, которую можно получить из окружающей среды, не располагая соответствующей системой распознавания. К счастью, сегодня мы далеко продвинулись в понимании специализированных систем, помогающих людям получать информацию из их социального окружения, даже если речь идет о тонких различиях во власти, престиже или красоте.
Учиться лепетать, хорошо себя вести и менструировать
Есть еще одно обстоятельство – чем больше информации живой организм обнаруживает, тем более сложная система распознавания ему требуется. Поднимаясь по лестнице сложности от простейших к тараканам, от крыс к людям, мы видим, что на каждой новой ступени живые организмы получают извне все больше разнообразной информации. Однако и возможности ее обработки также резко возрастают. Для получения большего количества информации из окружающей среды требуется больше информации в самой системе. Общее правило когнитивной эволюции состоит в том, что, чем больше живые организмы учатся, тем лучше они понимают, с чего начать работу с новой информацией. (Это нисколько не удивит опытных пользователей компьютеров, которые могут сравнить современное «железо» с тем, что использовалось лет двадцать назад. Тогда компьютеры были способны «узнавать», то есть получать и обрабатывать, намного меньше информации, поскольку располагали меньшим количеством предварительной информации, а именно менее сложными операционными системами.)
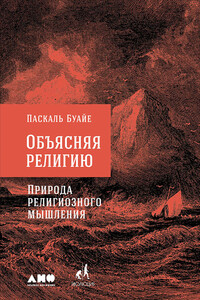
Откуда берется стремление верить в высшие силы? Как возникают религиозные представления, и отчего вера продолжает играть столь важную роль в жизни человека XXI века? Книга французского антрополога Паскаля Буайе описывает феномен религии с позиций эволюционной психологии. Подоплеку верований и религиозных обрядов ученый находит в принципах работы человеческого сознания. Одну за другой он опровергает распространенные «теории» происхождения религии – она возникла, чтобы объяснять непонятные природные явления и личные переживания, она утешает, она обеспечивает общественный порядок – и раскрывает перед читателем удивительные особенности устройства нашего разума.
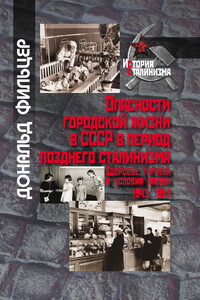
Перед вами первое подробное исследование норм жизни населения России после Второй мировой войны. Рассматриваются условия жизни в городе в период сталинского режима. Основное внимание уделяется таким ключевым вопросам, как санитария, доступ к безопасному водоснабжению, личная гигиена и эпидемический контроль, рацион, питание и детская смертность. Автор сравнивает условия жизни в пяти ключевых промышленных районах и показывает, что СССР отставал от существующих на тот момент норм в западно-европейских странах на 30-50 лет.
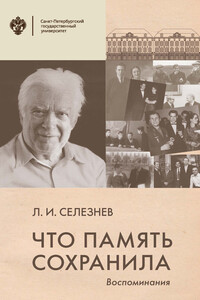
В книге воспоминаний заслуженного деятеля науки РФ, почетного профессора СПбГУ Л. И. Селезнева рассказывается о его довоенном и блокадном детстве, первой любви, дипломатической работе и службе в университете. За кратким повествованием, в котором отражены наиболее яркие страницы личной жизни, ощутимо дыхание целой страны, ее забот при Сталине, Хрущеве, Брежневе… Книга адресована широкому кругу читателей.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.
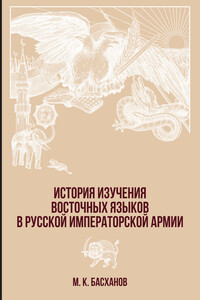
Монография впервые в отечественной и зарубежной историографии представляет в системном и обобщенном виде историю изучения восточных языков в русской императорской армии. В работе на основе широкого круга архивных документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, рассматриваются вопросы эволюции системы военно-востоковедного образования в России, реконструируется история военно-учебных заведений лингвистического профиля, их учебная и научная деятельность. Значительное место в работе отводится деятельности выпускников военно-востоковедных учебных заведений, их вкладу в развитие в России общего и военного востоковедения.
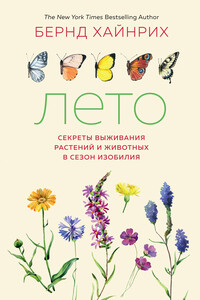
Как цикады выживают при температуре до +46 °С? Знают ли колибри, пускаясь в путь через воды Мексиканского залива, что им предстоит провести в полете без посадки около 17 часов? Почему ветви некоторых деревьев перестают удлиняться к середине июня, хотя впереди еще почти три месяца лета, но лозы и побеги на пнях продолжают интенсивно расти? Известный американский натуралист Бернд Хайнрих описывает сложные механизмы взаимодействия животных и растений с окружающей средой и различные стратегии их поведения в летний период.
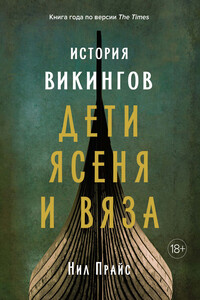
Немногие культуры древности вызывают столько же интереса, как культура викингов. Всего за три столетия, примерно с 750 по 1050 год, народы Скандинавии преобразили северный мир, и последствия этого ощущаются до сих пор. Викинги изменили политическую и культурную карту Европы, придали новую форму торговле, экономике, поселениям и конфликтам, распространив их от Восточного побережья Америки до азиатских степей. Кроме агрессии, набегов и грабежей скандинавы приносили землям, которые открывали, и народам, с которыми сталкивались, новые идеи, технологии, убеждения и обычаи.