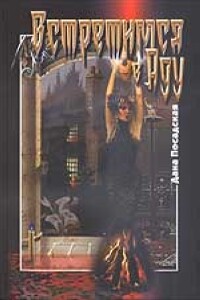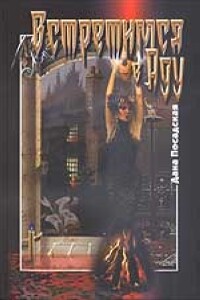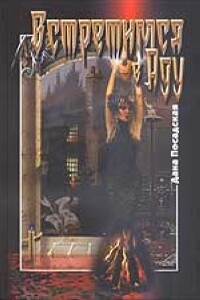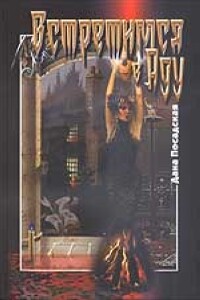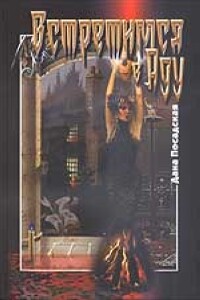— Смотри!
Рыжая грива взвилась, точно её подхватил ураган. И в тот же миг полопались все витражи. Стёкла с отчаянным звоном брызнули на пол. Мириады разноцветных осколков — прозрачных и тёмных, ярких и тусклых — усыпали всё, запутались даже её в волосах, и там запылали, как драгоценные камни.
— Хочешь ещё?! Смотри!
Она стиснула зубы и вскинула ввысь бешено горящие, полные жгучих непролитых слёз глаза.
— Смотри!
Статуи святых, безмолвно взиравшие на них из поднебесья, вдруг закачались, словно это были не каменные глыбы, пережившие века, а фигурки из папиросной бумаги. И затем они тоже посыпались вниз — бесшумно, на лету превращаясь в мягкую белую пыль. Эта труха засыпала их, как манна небесная.
Она опустилась на пол — прямо на груду осколков, — и откинула голову — так, что волосы коснулись каменных плит. Рыжие змеи, ползущие по серому праху. Она огляделась. Глаза её сами были как два осколка стекла. Тусклые. Холодные.
— Довольно? Или, может, мне разрушить стены? Или поджечь весь монастырь, чтобы вся эта грязь и рухлядь запылала до самого неба? — Она провела ладонью по лицу, затем закрыла его руками.
Он подошёл — как будто ступая по углям.
— Кто ты? — прошептал он. — Что ты такое?
Она оторвала безжизненные руки, подняла лицо, посмотрела на него в упор.
— Я не знаю. У меня есть сила — и это всё. Это всё что я знаю.
— Нечистая сила… — прошептал он.
— Нечистая? — она устало усмехнулась. — Чистая, нечистая — кто это может знать? Да что это вообще такое? Вот тебя, скажем, тоже, трудно назвать очень чистым.
— Не кощунствуй! — вскричал он, побагровев. — Твоя сила… она…
— От нечистого. Знаю. — Она с готовностью кивнула. — Можешь поверить, я это слышала. Правда, вот незадача — я даже не знаю, кто это такой. — Она повела плечами. Её плечи были широкими и угловатыми, но один из коронных жестов Белинды и Люция всё равно получился весьма изящным.
Он смотрел, и его лицо бледнело на глазах. Губы несколько раз хватали воздух, прежде чем выдавить звук.
— Ты… не знаешь…
— Нет. — Она яростно взметнулась всем телом, как рыба о лёд, ударилась о камни, усыпанные битым стеклом.
— Говорю тебе, я ничего не знаю. Ничего. Ничего, ничего! Но я так больше не могу. Я не выдержу. — Она повернулась и прижалась лицом к стене. Её волосы горели ржавым цветом запёкшейся крови. Крови её истомившегося сердца.
Она не плакала — просто замерла; неподвижно, как надгробное изваяние.
Он подошёл, опустился рядом на колени и обнял её за плечи.
Время двигалось странно и непредсказуемо. Оно то летело, словно камень из пращи, то ползло неохотно старой черепахой. Иногда в монастыре проходили месяцы, а в мире Анабель — всего одна ночь. А иногда наоборот: Анабель покидала монастырь и возвращалась через долю секунды, успев прожить в Чёрном замке несколько дней, томительных и сладких от предвкушения.
Иногда это её забавляло, иногда — приводило в буйную ярость. Как, впрочем, и всё, что было связано с монастырём — и с ним.
… Ночь подходила к концу. Анабель, перебирая пальцами волосы, медленно брела по лабиринтам замка. Тёмные лестницы льнули к её ногам, как кошки Энедины; окна, притаившиеся в тёмных стенах, размечали путь голубыми и серыми пятнами.
Пели ступени, пели половицы, пели все струны в теле Анабель — непоправимо холодном снаружи и лихорадочно пылающем внутри. Пела она сама — еле слышно, но её нечеловеческий голос проникал во все щели и скважины замка, как дым, и стелился позёмкой по залам и коридорам.
Откуда-то из темноты выступила бледная фигура с распущенными до полу серебристыми волосами. Это, конечно, была Ульрика.
— Замолчи, Анабель, — простонала она, — Что за ребёнок! И так полнолуние, в замке творится полнейший хаос! Только эльфийского воя не хватало!
Анабель равнодушно пожала плечами — что ещё она могла ответить? — и продолжила свой путь. В одно из окон влетел серый вихрь, пахнущий сырой землёй, кровью и смолой. Что-то серое, всё в иглах и репейнике, прокатилось кубарем по каменному полу, издавая пронзительный вой, от которого даже у Анабель и Ульрики заложило уши. Два волка — один молодой, другой совсем ещё волчонок, — зарычали, завертелись, как будто пытались поймать каждый свой собственный хвост, и обернулись, разумеется, Мартином и Поросёнком. Оба тут же повалились на пол, тяжело дыша в изнеможении и по привычке высунув красные дымящиеся языки.
— Я же говорила! — взвизгнула Ульрика. — О, это полнолуние! — И она исчезла, с треском захлопнув дверь.
Анабель по привычке прижала Поросёнка к себе, хотя и знала, что это ему не по вкусу. Да и ей всегда было больно, обнимая его, вдыхать вместо запаха тёплой, разнеженной солнцем детской кожи, густой и тяжёлый дух дикого зверя. Впрочем, — в который раз напомнила себе она, — я ведь сама сделала его таким. Я хотела, чтобы он жил. Хотела. Но хотела ли я такого? Да или нет?
Поросёнку, наконец, надоели её ласки, он решительно вырвался и убежал. Анабель закусила губу.
Мартин поднялся с пола и сострил ей шутливую гримасу.
— Не обращай внимания, — посоветовал он, — Волчонок нынче не в духе. И Ульрика, между прочим, тоже. Говорят, у них с Люцием что-то совсем расклеилось.