Алмазная грань - [44]
— Нельзя большие окна. Максим-управляющий узнает, с завода прогонит.
— Прогонит? — недоверчиво переспросил плотник. — За что?
— Боится Максим, стекло с завода воровать будут. Не велит большие окна делать.
— Чего ему бояться? Ты купить, поди, можешь.
— Купить? Украсть можно, а купить нет. Максим в Райки хорошее стекло не продаст. Нам со склада битые листы дают. «Для вас, мордвы неумытой, и этакое сойдет», — говорят. «За хорошее стекло в городе настоящую цену заплатят, — Максим сказал. — А с вас чего возьмешь?» Да и тепло у нас в Райках берегут. Зимою с маленьким окошком лучше, а летом дверь открой — и светло будет, не хуже, чем у калил в избе.
— Это что еще за калилы?
— Управитель Максимка их пригрел. Душа у него кривая. В Райках калилы не живут. У них денег много, за деньги Максим целый порядок в поселке продал. Там калилы избы поставили — одна другой краше. Во дворе две, а то и три лошади, гляди, есть. Калить прибыльно, только не всякий может. Кажись бы, просто: оглобли обжечь немного и телегу. Запряги лошадь, поставь икону и езжай побираться. Погорельцев везде жалеют — последним с ними делятся. Я вот не сумел. Собирался — и не поехал. Совесть измучила.
— Плохо с совестью жить, — заметил Василий. — Тягота одна, а пользы нет.
— Ой, врешь, ляляй, — забеспокоился Яков. — Как можно без совести?
— Можно. Я по свету немало шатался, нагляделся. Кто с совестью живет — хлеба не видит, а кто про нее не думает — щи с убоиной всякий день ест. Вот и прикидывай, как лучше.
— А ты сам-то как живешь?
— Обо мне речь молчит. Я человек легкий, перекати-поле. Весной подует ветерок — не ищи меня: домой ушел.
Высокая мордовка, жена Якова, поставила на стол плошку с горячей картошкой, нарезала хлеб и, присев на лавку, начала есть.
— Нарядная у тебя баба, Яков, — заметил Костров, разглядывая крупные желтые бусы, надетые на шее у Марьи, ее расшитую холщовую рубаху и темно-синий сарафан. — Как на престольный праздник вырядилась.
— А ты языком-то помене мели, — резко оборвала молчавшая до сих пор женщина. — Ешь, коли хочешь, да за делом отправляйся. Расхвастался: легкий он. На заводе легкость-то быстро собьют... Ешьте, ребятушки, их не переслушаешь.
Тимоша и Ванюшка, взяв по горячей картофелине, обжигавшей пальцы, стали с жадностью есть.
— Ешьте, ешьте, — ласково приговаривала Марья. — Сольцы мало, не сорите. Поедите — силы прибавится. Работниками будете хорошими, когда сила есть. За работу держаться надо. На одном месте лучше, милые. Камушек и тот обрастет лежучи.
— Под лежачий камень вода не бежит, тетка, — перебил Василий.
— Ты помолчи! Не от добра, поди, нележачим стал. Мотает тебя по свету, обтачивает, как голыш водой. Много хвастаешься, а я вижу, чего твое хвастовство стоит.
— Будет тебе, Маша, — взмолился Яков и с легким смущением пояснил Василию: — Она у меня такая: то слова не промолвит, а то вдруг как ножом полоснет. Садись, ешь.
Костров перекрестился и сел рядом с Ванюшкой. Взяв горячую картофелину, плотник смущенно посмотрел на жену Якова. Но она, словно не замечая его взгляда, стояла у шестка, сурово поджав губы.
— Ешь, — подвигая к Василию плошку с картошкой, сказал Яков. — Не смотри. Она не злая, только гордая. Мордовка, а гордая. Бед с ней немало мы повидали, но она вот не обмякла. У меня иной раз руки опускаются, а Марья еще жестче делается. Пропал бы я без нее.
Утром, когда на заводе ревел недавно поставленный гудок, Картузов был уже на ногах.
Расчесывая мокрые после умывания седые вьющиеся волосы, управляющий сердито смотрел на хлопотавшую у печи невысокую розовощекую старуху, повязанную теплым платком.
— Побыстрее, Варвара, побыстрее! — торопил Максим Михайлович. — Ползаешь, словно дохлая.
Старуха была глуховата, но к окрикам брата она привыкла и слышала их хорошо.
— Ишь, торопыга, — сердито огрызалась Варвара. — Не великая беда, коли часом меньше народу глаза мозолить будешь. Все одно проку-то мало: ни швец, ни жнец, а вроде Полкана...
— Цыц, старая дура! Дал вот господь сестричку! Ехидна! Собирай, говорю, быстрее на стол, глухая ведьма!
Варвара ставила на стол горячие блины и горшок со сметаной. Потом присаживалась в углу на лавке и молча смотрела на торопливо завтракавшего брата.
— Чего уставилась, сова? — спрашивал Максим Михайлович. — Ешь, чем в рот-то глядеть.
— Успею. Мне спешить некуда. Та сам-то кушай, а то силушки недостанет мыкаться дотемна по заводу. Бегай да тявкай на каждого. Эх, Максим, Максим, гляжу я на тебя, и жалко иной раз. Жизнь-то к исходу близится, а хорошего в ней — ни синь пороха. Ни жены, ни детушек, живешь с глухой старухой дурой. Люди тебя не любят. Да и любить-то не за что: весь век, ровно хозяйский Полкан, на каждого бросаешься, все куснуть побольнее норовишь.
— Замолчи, дура!
Отшвырнув тарелку с недоеденным блином, Картузов встал из-за стола.
— На всякий роток не накинешь платок, — не унималась старуха. — Я замолчу — другие скажут. Вон Ванька Картузов, племянничек твой, каждому говорит: «Мы с аспидом Максимкой только по прозванию родственники. Не родня он нам, кровопивец». Родные чураются, а уж про чужих и говорить нечего: никто не любит тебя. Все суетишься, а время-то уходит. О душе подумать бы надо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
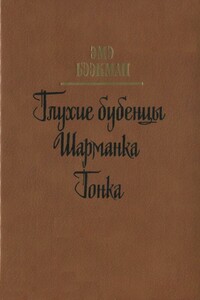
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.