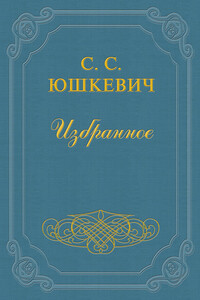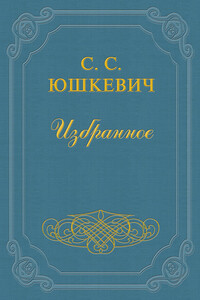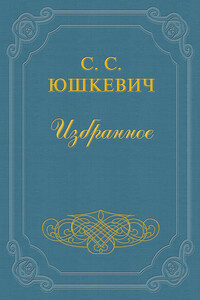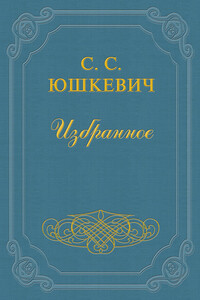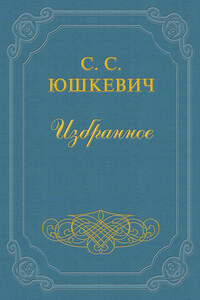И кончилось.
Савельев поднялся, будто и не спал. Оглянулся. А за окном стояло зелено-синее утро в пурпурной юбке с солнцепоющим венком на голове. И увидев это утро, Савельев сразу понял его глубокое значение, прочно вобрал в себя смертельный страх и быстро, страшно торопясь, стал решать свою алгебру.
«Нет, ошибки не было! Если от А плюс В отнять А плюс В?»
– Так как же? Конец?
– Конец, – до земли склонив венок, ответило зелено-синее утро.
Савельев терпко моргнул одним глазом, снял с чемодана-медведя веревку, сунул ее в карман, и, крадучись по лестнице, чтобы с провокатором не встретиться, пошел в глухой уголочек двора.
И взяв его нежно под руку, шло зелено-синее утро в пурпурной юбке с солнцепоющим венком на голове, и оба они были как жених и невеста, идущие в церковь.
Во дворе было небо, травка под ногами, и был еще стройный белый петух с курами. Савельев, увидев петуха, беззаботного и прекрасного, как сама природа, начал, умиляться, но смертельный страх тотчас прикрыл все бледностью своей.
И умер петух в сердце Савельева.
В глухом уголочке Савельев, помахав хвостиком, стал неверными руками вязать петлю. И, делая петлю, он незаметно задумался о своей жизни от ее начала до последнего конца. Мог ли он, будучи на высоте, ожидать, что жизненная линия приведет его сюда?
За что ему такое наказание? Какое преступление он совершил? Но как он ни старался вспомнить, ни преступлений, ни ошибок не было. Смерть – вещь неизбежная, и еще неизвестно, где бы ему было легче умереть, на своей ли кровати в Москве, или здесь, в глухом уголочке, но ни ошибок, ни преступлений не было. Был закон жизни, и он никогда не шел против закона: не упирался, когда поднимался из низов вверх и не упирался, когда падал, радовался в меру, а плакал вволю.
Все не выходит петля. И думает теперь, терпеливо трудясь над ней, Савельев о другом, совершенно о другом. Мысль медленно пробивает себе дорогу в дремучем лесу мозга. Там, в чаще его, словно в полусне, то появляясь, то пропадая, бродят тигры, волки и кроткие боги, – и несущий Истину сам Христос чутко дремлет, готовый возвестить свою правду.
Что увидел, что познал, что понял Савельев в мире, куда его послали? Ему сказано было славить дыхание свое, глаз свой, разостлаться и развернуться во все концы мира, а он делал другое. Ему надо было радоваться тому, что какой-то крохотной частичке мира дано было небесное счастье увидеть солнце, познать любовь, посидеть в саду, услышать птиц, поглядеть на человека, а он все время потерял, погнавшись за богатством, и ничего не увидел, ничего не понял, никого любовью не согрел, и, как нищим, голым пришел сюда, так нищим, голым, неразумным уходит. Отлетит от него дух, и в ту же минуту в небесах вновь появится он, лохматый, непросветленный, окаяннее окаянного.
– Так что же мне делать? – в отчаянии крикнул Савельев.
И тут, как бы в ответ, раздался голос, но такой, какой, может быть, только в раю можно услышать.
– Петух, петух, – обрадовался Савельев. И понял.
«Мой петух, мой, – ликовал он, – мое солнце, мой мир видимый и невидимый».
И крадущимися шагами разбойника, сорвавшегося с креста, с драгоценнейшими вещами в самой далекой комнате своего сердца – солнцем и петухом, – Савельев, кому-то хитро подмигивая, вышел на улицу.
Но идя, твердо знал, что он вор и Бога обманул.
И все подмигивал. Подмигивал. Гримасничал, Кому-то. Нездешнему.
* * *
В напряженнейшем ожидании, с зелеными и желтыми мыслями в голове, едва прислушиваясь к себе, и однако ощущая каждую точку своего цветного сознания, Савельев, появившись, тотчас остро, как иголка, воткнулся в улицу.
Зеленая пыль.
Серебристые, раскачивающиеся листочки.
И, воткнувшись, скользнул дальше, нанизывая на воздушную нить переулки и закоулки, дома и домишки, ресторашки, пивнушки и все, что попадалось на пути.
Утро, сбросив с нежных плеч своих синий кафтан и облачившись в тяжелую золотую порфиру, сладчайшими пальцами манит людей на улицу. Савельев насторожился и открыл один глаз. И вот выбежали с глазками жаб хвостатые, хвостатые, бородатые, чтобы начать свою весело-страшную жизнь краткого, очень краткого дня. Савельев будто с шестого этажа посмотрел на них и рукой остановил свои от смеха прыгавшие щеки.
«А я сам тридцать лет не видел петуха и даже забыл, какое у него лицо», – погрозил он себе, и вдруг смятенно оглянулся.
«Ибо. Да, так. Протяжность. Штрихи», – зелено носилось в мозгу.
Он стоял у дверей харчевни, где вчера ему было отказано в кредите. Но не удивился этому.
«Жрать хочешь, Савельев, – промелькнула черная, переходящая в коричневую, мысль, – но жрать тебе не дадут. А впрочем, зайдем».
И заскучав, он разорвал ниточку, и вся его работа пропала.
Переулки и закоулки, дома и домишки, ресторашки и пивнушки – все повалилось в одну кучу. Савельев с презрением оттолкнул ногой эту дрянь и, чувствуя, как превращается в бессильного, старого волка, но до ясновидения просветленный, с петухом и солнцем в самой далекой комнате своего сердца, подобострастно виляя хвостом, забрался в харчевню.
И тотчас, как только он показался, харчевня зашептала многими голосами: