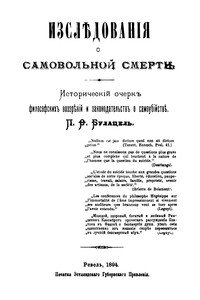Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского - [18]
Но образ Деточкина в размышлениях о Федоре не возникнет, опыт смешения комических и драматических элементов не будет использован, актер, вопреки автору, решительно откажется от комической подсветки своего Федора. Как, впрочем, не раз отказывались до него другие исполнители этой роли. Пожалуй, только в описаниях Федора, каким он виделся А П. Ленскому, можно угадать ласковую усмешку, добрую иронию, близкую Алексею Толстому. А П. Ленский, за два года до спектакля МХТ хлопоча об отмене цензурного запрета, писал: «Он является перед зрителем не в торжественной обстановке приема послов и царской думы, не в полном царском облачении, а именно в своей простой домашней обстановке, со своей Аринушкой, тут же вышивающей на пяльцах; в этом знакомом каждому москвичу тесном, жарко натопленном покойнике, с пузатой печкой, занимающей добрую четверть комнаты, с этим запахом лампадного масла и ладана, словом: со всем тем, что окружало некогда православного русского царя. И на этом-то благочестивом, стародавнем, словно из потускневшего золота, фоне воспроизвести симпатичный всепрощающий образ «царя-ангела», как его называли». Ленскому пьесу так и не дали поставить.
Вышедшие в роли Федора почти одновременно после разрешения постановки пьесы Алексея Толстого для МХТ и Суворинского театра, Иван Москвин и Павел Орленев заложили традиции трактовки образа, которым с вариациями, диктуемыми актерской индивидуальностью, следовали другие исполнители (за Москвиным — Качалов, Хмелев, Добронравов; за Орленевым — Михаил Чехов). Одна из самых часто цитировавшихся характеристик орленевского Федора звучит так: «Если с Федора снять дорогой парчовый кафтан, шапку Мономаха и одеть в серенький и поношенный костюм современного покроя, и царский посох заменить тросточкой, его речь, его страдания останутся теми же, так же понятными нам и симпатичными. Этот средневековый самодержец — тип современного неврастеника чистейшей воды. Те же порывы к добру и та же слабость в осуществлении их, те же вспышки необузданного гнева и та же неспособность негодовать…». Орленев играл трагедию самопознания и разочарования в себе. Запоминалась долгая пауза размышления, когда Федор колебался отпустить Бориса или согласиться на арест Шуйских. Чтобы подкрепить решение, Федор молился: губы беззвучно шептали слова, лицо прояснялось, становилось спокойным и сосредоточенным: «Я в этом на себя возьму ответ». Когда после Федора Орленеву предложили роль князя Мышкина, артист отказался, боясь самоповтора.
Москвинский Федор с круглыми наивными глазами, смотревшими прямо в душу, оказывался насильно втянутым в противоречия политической борьбы. Москвин играл очень русского, близкого, понятного «царя-мужичка», по определению Н. Е. Эфроса. В. М. Волькенштейн в своей книге приводит высказывание Станиславского: «В «Царе Федоре» главное действующее лицо — народ, страдающий народ… И страшно добрый, желающий ему добра царь. Но доброта не годится». Это ощущение собственного бессилия, собственной слабости, того, что «доброта не годится», — разламывало душу Федора — Москвина. Во всех рецензиях отмечались его детское всхлипывание на вопросе: «Я царь или не царь?» — и бескрасочный, опустошенный голос в финальном монологе: «Моей, моей виною случилось все…».
Вспоминая о подступах к Федору, Смоктуновский отметит: «Видел Москвина на кинопленке. Хотел сыграть противоположное Москвину».
Елена Дангулова, присутствовавшая на репетициях Бориса Равенских, отмечала: «Смоктуновский пришел в Малый театр, уже зная, как будет играть Федора. Вот каким поначалу был его Федор: изможденное, не смуглое, а именно потемневшее от болезни лицо, жидкая бородка, горячечные глаза… Взгляд вроде бы и внимательный, но мимо, поверх собеседника, взгляд в себя… Сламывается походка, словно каждый шаг отдается болью. Лицо сведено судорогой. Руки как бы пытаются схватиться за воздух…»
Трактовка актера шла вразрез с общей режиссерской концепцией спектакля. Борис Равенскнх видел в Федоре человека прекрасного духом и телом, мудреца, мыслителя и гуманиста. Ставить спектакль о царе, который слаб плотью и духом, считал не увлекательным и не своевременным.
Репетировать на сцене начали сразу в готовых декорациях, но без закрепленных мизансцен. Равенских объяснял, что «готовая декорация — это раз навсегда закрепленное пространственное решение спектакля. Его нельзя заменить, его надо обживать. Оно организует не только пластическое решение, но и требует от актеров определенного душевного настроя». Как свидетельствует Елена Дангулова, «поначалу многих актеров смущало решение художника Е. Куманькова». Идеальное Берендеево царство — терема, купола, церкви, красивые лица, красочные одежды — весьма напоминало оперные «боярские пьесы». «Особенно убедительными были доводы Смоктуновского: «Вся мировая сцена борется за сантиметры, чтобы приблизиться к зрителю, а мы сознательно отдаляем его от себя»…».
Во время репетиций, идя навстречу пожеланиям режиссера, артист кардинально поменял свою трактовку роли Федора. Сам Равенских вспоминал: «Уходил Смоктуновский, бился головой об стену и говорил: «Оставьте меня, Борис Иванович, я не сыграю эту сцену». Многие артисты плакали». «От Смоктуновского потребовалось, пожалуй, самое трудное для любого актера — перечеркнуть найденное и начать заново, с белого листа. Этот этап Смоктуновский начал с того, что уничтожил все внешние приметы образа. Федор словно помолодел, перестал казаться болезненным. Выяснилось, что его Федор умеет улыбаться. Борис Иванович в этот период упорно поправлял Смоктуновского по линии утверждения абсолютного здоровья Федора. Это были очень трудные репетиции. И много времени прошло, пока Федор Смоктуновского и Федор Равенских не слились воедино».

Книга посвящена «низшей» мифологии славян, т. е. народным поверьям о персонажах нечистой силы — русалках, ведьмах, домовых, о духе-любовнике и духах-прорицателях и т. п. Затрагиваются проблемы, связанные с трудностями идентификации демонологических персонажей и с разработкой методов сравнительного изучения демонологии разных славянских народов. При исследовании этого важнейшего фрагмента народной культуры главным для автора остается факт включенности мифологических персонажей во все сферы бытовой и обрядовой жизни традиционного общества.
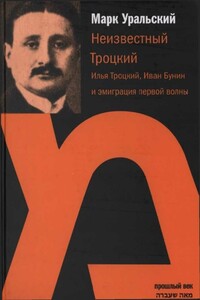
Марк Уральский — автор большого числа научно-публицистических работ и документальной прозы. Его новая книга посвящена истории жизни и литературно-общественной деятельности Ильи Марковича Троцкого (1879, Ромны — 1969, Нью-Йорк) — журналиста-«русскословца», затем эмигранта, активного деятеля ОРТ, чья личность в силу «политической неблагозвучности» фамилии долгое время оставалась в тени забвения. Между тем он является инициатором кампании за присуждение Ивану Бунину Нобелевской премии по литературе, автором многочисленных статей, представляющих сегодня ценнейшее собрание документов по истории Серебряного века и русской эмиграции «первой волны».
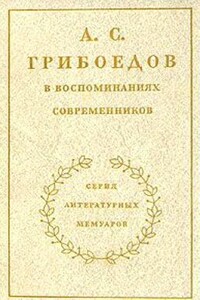
В сборник вошли наиболее значительные и достоверные воспоминания о великом русском писателе А. С. Грибоедове: С. Бегичева, П. Вяземского, А. Бестужева, В. Кюхельбекера, П. Каратыгина, рассказы друзей Грибоедова, собранные Д. Смирновым, и др.

Эта книга о том, что делает нас русскими, а американцев – американцами. Чем мы отличаемся друг от друга в восприятии мира и себя? Как думаем и как реагируем на происходящее? И что сделало нас такими, какие мы есть? Известный журналист-международник Михаил Таратута провел в США 12 лет. Его программа «Америка с Михаилом Таратутой» во многом открывала нам эту страну. В книге автор показывает, как несходство исторических путей и культурных кодов русских и американцев определяет различия в быту, карьере, подходах к бизнесу и политике.

Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху постправды и фейковых новостей?Сергей Ильченко — доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм — настойчиво и последовательно борется с фейковой журналистикой. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, раскрывает приемы, при помощи которых нас вводят в заблуждение и навязывают «правильный» взгляд на современные события и на исторические факты.Помимо того что вы познакомитесь с основными приемами манипуляции, пропаганды и рекламы, научитесь отличать праву от вымысла, вы узнаете, как вводят в заблуждение читателей, телезрителей и даже радиослушателей.