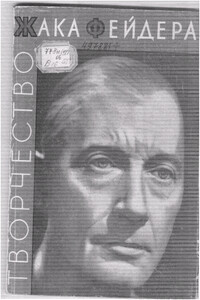Актер на репетиции - [32]
В роли Гойи Д. Банионис
Не отказываясь от этого эпизода, мы вводим еще один — ему предшествующий, контрастный по форме и внутренней сути. Сцена Инквизитора очень статична — здесь же динамика, бунт, ренессансная мощь ума и силы. Перед нами не сумасшедший старик, закрывшийся в пригородном доме и в одиночестве переживающий все то, что обрушилось на него и Испанию, но человек во всеоружии разума, жаждущий действия.
Для актера эта сцена очень трудна. Она должна идти в общем реалистическом потоке, не быть возвышенной. Приземленный бытовизм противопоказан ей так же, как пустопорожний пафос. Сцена полна жизни и крови. «Я не сдаюсь!» — вот что тут главное…
Я смотрю на Гойю, а вспоминаю Галилея, и не по странной прихоти ассоциаций, а по прямой связи искусства. Там, в знаменитом спектакле «Берлинер ансамбль», в финале, тоже была трапеза. Жадно, торопливо, ничего кругом не замечая, ужинал Галилей — Эрнст Буш. Румяный, хорошо поджаренный гусь был платой за отречение — конечно, не большой, но зато реальной, вещественной. Галилей отдавал ему должное. Тут все было наглядно, и суть была в этой поразительной, обнаженной наглядности. Банионис фактически так и не присаживается к столу, а если присаживается, то на минутку или под конец эпизода. Еда тут как демонстрация, как протест, как акт самоутверждения. Она в одном ряду с циничной или олимпийской, смотря по обстоятельствам, репликой: «Мертвых — в землю, а живых — за стол», которую он пробормочет, спрыгнув с ларя.
Режиссер предлагает свое объяснение сцены, умозрительное истолкование ее смысла. Это истолкование дает возможность понять замысел, оценить его по достоинству. Это немало. Но результат все-таки достигается сложением множества величин. И одно из слагаемых, главнейшее, — смешок актера, и стук его палки, и взгляд, который он кинет на стену, прежде чем спуститься вниз. Взгляд неожиданный — кажется, Гойя чего-то испугался, но чего? Ведь в комнате он один — он и картины. Потом, когда весь эпизод будет сыгран, будет понятен и этот взгляд, но, даже логически не осмыслив его, мы оказываемся во власти чувства, которое испытывает актер. Тут напряжение, тут ожидание, тут глубоко спрятанная (и от себя тоже) тревога. Именно поэтому «ренессансный пир» столь неуравновешен, столь дисгармоничен. Нет безмятежного застолья, нет наслаждения едой, нет покоя.
Те, что на стенах, они им, конечно, пригвождены. Но надолго ли? Там наверху, на антресолях, он испугался своего собственного Колосса — вдруг явственно показалось, что тот хочет его схватить. Разумеется, чепуха, он тут же над собой и посмеялся, но если вполне честно — схватить-то его они должны… Все это знают, все предупреждают, а он делает вид, что не верит. Ах, будьте вы прокляты, все вы, с которыми связал всю жизнь, с которыми воевал всю жизнь и от которых освободился теперь, сейчас!
Там, в Кинте, наглядное свидетельство его освобождения — портрет испанки махи, редкий по красоте и внутреннему самообладанию. В нем все гармония — свободная, горделивая поза, ровный взгляд из-под черных ресниц, ясность чела. Среди чудовищ и монстров она, как символ веры, как символ надежды, как гимн нетленной красоте человека. Пусть знатоки гадают, кто она, эта девушка: герцогиня Альба, умершая возлюбленная Гойи, или иная модель. Для нас, сегодняшних, это лицо Испании, лицо ее народа.
…На съемках есть такой момент — звукозапись. Раздается соответствующая команда — павильон замирает, и актеры играют весь эпизод целиком. Начинается театр: исполнители один на один с ролью, друг с другом, с публикой.
В эпизоде «Кинта дель Сордо» тоже настал такой момент. Замолкла камера, погасли осветительные приборы, мы вздрогнули от тишины и услышали чьи-то быстрые, неровные, спотыкающиеся шаги. Банионис спустился вниз, подошел к столу, потом к ларю, взобрался на него, разговаривая с картинами, и опять захромал к столу. Мы видели все это раньше, буквально на минуту-другую раньше все было таким же и абсолютно иным. Не хуже или лучше, но расчлененным на эпизодики, кадрики и связанным воедино лишь воображением актера и волей режиссера. Сейчас мы отчетливо ощутили внутренний ритм сцены, ее скрытый нерв, ее смысловые переходы. Это было странно, непостижимо: перед нами был и другой человек. Не тот — актер, равнодушно подставлявший лицо опытным рукам гримера, тихо шепчущийся о чем-то с режиссером или меряющий шагами свободный угол. Это был Гойя — единственно такой, каким хотелось его видеть и каким он вставал со страниц сценария. Человек, уже заплативший за прозрение и знавший, что он заплатил непомерную цену, но все равно упорный по-прежнему, и живой по-прежнему, и черпающий силу даже в собственном поражении.
Банионис делал вроде бы все то, что хотел от него Вольф, соглашался, не спорил с ним и не прибавлял ничего, кроме удивительной способности: быть со всеми и вместе с тем только с собой. Это актерское ли, человеческое ли качество тут, в данной ситуации, оказалось самым необходимым. Все другое, кроме сосредоточенности, болезненного даже — в смысле остроты — самоуглубления, было бы и мелким и снижающим момент. Теперь же и злые, циничные реплики, и дрожь озноба от одной только мысли, что инквизиция может явиться, и бравада, и язвительный смех, и сам этот ужин, который будет съеден назло всем и всему, — все это чувствовалось и воспринималось лишь вкупе с человеческим одиночеством. Не было Гойи-победителя, обманывающего себя и других оптимистическими реляциями. Была трагическая фигура, сохраняющая человеческое достоинство. И был гений, не потерявший способность видеть все это со стороны…
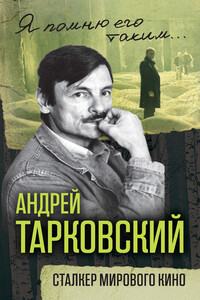
Прошло уже тридцать лет, как не стало Андрея Тарковского, и до сих пор не утихают страсти вокруг его имени и творчества. Он умер в 54 года, испытав трагедию души: Тарковский не мог жить в России и не мог без нее. Каждый фильм его творческого наследия по-прежнему загадка, тайна времени и пространства, которую предстоит еще разгадывать потомкам, – «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение». О том, каким был выдающийся мастер кино XX века, в этой книге вспоминают люди, близко знавшие его.

7 апреля 1954 г. в семье Чарльза и Ли-Ли Чан появился малыш, которого назвали Чан Конг-сан (Чэнь Гангшенг или Кэн Гонг Санг на других наречиях). Через много лет этот мальчик станет известным под именем Джеки Чан.

Александр Гордон — кинорежиссер и сценарист — был с юности связан с Андреем Тарковским и дружескими, и семейными отношениями. Учеба во ВГИКе, превращение подающего надежды режиссера в гениального творца, ожесточенная борьба создателя «Андрея Рублева» и «Соляриса» с чиновниками Госкино — все это происходило на глазах мемуариста. Используя богатый документальный материал, А. Гордон рисует натуру страстную и бескомпромиссную во всем, будь то искусство или личная жизнь…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов в своей книге «Судьба и ремесло» ведет речь об актерском искусстве — в профессиональном и более широком, гражданском смысле. Актер размышляет о творчестве в кино, делится своим опытом, рассказывает о товарищах по искусству, о работе на радио.А. Баталов. Судьба и ремесло. Издательство «Искусство». Москва. 1984.