Агония христианства - [3]
«Не может быть странствующего рыцаря без дамы… сердце которого оставалось бы незанятым».[3] Сердце Унамуно было занятым, Испания была дамой его сердца. Его любовь к родине вовсе не была слепой. Он ясно видел и Испанию теневую, Испанию лени и зависти, нищеты и невежества, одним словом, Испанию тления, противоположную Испании воскресения. Но прекрасный и истинный образ Испании всегда царил в его сердце, и, как и подобает странствующему рыцарю, он служил ей верой и правдой и готов был сразиться с каждым, кто усомнится в том, что она – Прекраснейшая.
То была его Испания, его принцесса, заколдованная злым волшебником, которую он жаждал освободить. А по крови он был баск. Как и Лойола, основатель ордена иезуитов, – баск, дух которого неотделим от Испании. «Я баск, а значит тем более испанец», – говорил он о себе, бросая вызов пошлому национализму.
Унамуно стал зачинателем идейного комплекса так называемого «поколения 98 г.» – движения передовой испанской интеллигенции за возрождение Испании, к которому принадлежали также А. Ганивет, П. Бароха, Асорин, Антонио Мачадо, Валье Инклан и др. видные деятели испанской культуры конца XIX – начала XX вв. 1898 год – это дата поражения Испании в испано-американской войне и потери последних заокеанский колоний, что страстные испанцы восприняли как национальную катастрофу. Эту часть испанской интеллигенции объединяет чувство, которое кратко выразил опять-таки Унамуно: «У меня болит Испания». Речь идет не просто о национальном упадке или национальной трагедии, а о том, что упадок и трагедия Испании являются моею личной трагедией, не о том, что Испания больна, а о том, что она болит у меня, ее болезнь это то, чем болен я сам. И в поисках лекарства от этой болезни испанские писатели во главе с Унамуно отправляются в хождение по Испании, чтобы познать живую и не пострадавшую от превратностей исторических судеб душу испанского народа, чтобы, приобщившись к его жизни, текущей под официальной историей, разгадать тайну исторического пути Испании, смысл ее былого величия и нынешнего падения.
Впоследствии Унамуно скажет, что агония его испанской родины пробудила в его душе агонию христианства. Но этому пробуждению предшествовало еще одно событие в жизни Унамуно, несчастье, постигшее его семью и сыгравшее чрезвычайно важную роль в его духовной биографии. В 1897 г. у него заболел ребенок, страшная болезнь – менингит – унесла в могилу его маленького сына. В глубоком горе Унамуно осознает, что это Бог карает его за измену вере. Свое неверие он воспринимает как трагедию, ибо даже раскаиваясь и желая уверовать, он еще не обрел веры, ведь хотеть верить – еще не значит верить. Он уединяется в монастыре и пишет эссе «Никодим Фарисей», в котором формулирует «трагическую проблему веры».
Специалисты – комментаторы творчества Унамуно любят обсуждать вопрос о том, была ли у него на самом деле вера. При этом нередко высказывается мысль о религиозном лицемерии Унамуно. Так, Санчес Барбудо утверждает, что Дон Мигель никогда, в сущности, не был ни католиком, ни христианином вообще, но, вечно терзаясь своим неверием, намеренно сотворил легенду о своей вере.[4] А с другой стороны, Хулиан Мариас утверждает, что Унамуно «не сделал мужественного, твердого усилия, чтобы выйти из этого сомнения (в существовании Бога и бессмертии души)», но «пожалуй, он и не хотел из него выходить, вероятно из страха впасть в отрицание», а такая осторожность была бы непонятна, если бы веры у него не было. Так что, по Мариасу, выходит опять же лицемерие: публично, в своих сочинениях Унамуно не перестает сомневаться, тогда как на деле «под покровом этого сомнения имеется вера,, в которой он пребывает, которой живет и которая и позволяет ему заниматься своими диалектическими упражнениями… опираясь на ее фундамент».[5] К этому стоит прибавить, что Римская Католическая Церковь признала религиозно-философские искания Унамуно антихристианскими: его «О трагическом чувстве жизни…» и «Агония христианства» внесены в папский индекс запрещенных книг.
Люди, которые говорят о религиозном лицемерии Унамуно, исходят из предположения о том, что сомнение в вере автоматически ставит под вопрос искренность веры: истинно что-нибудь одно – либо вера, либо сомнение. Но дело в том, что его вера и была сомнением, а его сомнение и было верой, если только можно назвать сомнением то трагическое ощущение постоянной тревоги о полноте и подлинности своей веры, которое заставляло его постоянно испытывать самого себя. Да, это не похоже на самодовольную и безмятежную уверенность в своей вере. Формула его веры – слова отца бесноватого из Евангелия от Марка: «Верую, Господи, помоги моему неверию! «(IX, 24). Но это – позиция предельно искренней веры, в своем бессилии уповающей только на Бога. То, что Мариас называет «диалектическими упражнениями», является обнаружением антиномичности предельных позиций нашего разума по отношению к вере и к самому себе, возгонкой трагически неразрешимого противоречия разума и веры в то предельное состояние, которое является переживанием конечности нашего бытия и одновременно страстной жаждой полноты и вечности бытия, «жаждой бессмертия» и «голодом по Богу». Речь идет о противоречии не диалектическом, а патетическом, трагическом, о том состоянии предельного отчаяния, из которого страждущая душа обращается к Богу как к последней своей надежде, как к спасению. В том-то и дело, что конфликт этот неразрешим ни для человеческого разума, ни для сколь угодно «мужественных и твердых усилий» человеческой воли. Не от них, но от Бога, от благодати Божией зависит вера. «В отношении с предельным, – как сказал Пауль Тиллих, – мы всегда получаем и никогда не даем».
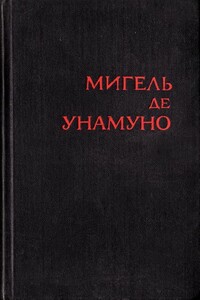
Библейская легенда о Каине и Авеле составляет одну из центральных тем творчества Унамуно, одни из тех мифов, в которых писатель видел прообраз судьбы отдельного человека и всего человечества, разгадку движущих сил человеческой истории.…После смерти Хоакина Монегро в бумагах покойного были обнаружены записи о темной, душераздирающей страсти, которою он терзался всю жизнь. Предлагаемая читателю история перемежается извлечениями из «Исповеди» – как озаглавил автор эти свои записи. Приводимые отрывки являются своего рода авторским комментарием Хоакина к одолевавшему его недугу.
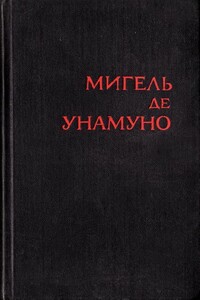
Своего рода продолжение романа «Любовь и педагогика».Унамуно охарактеризовал «Туман» как нивола (от исп. novela), чтобы отделить её от понятия реалистического романа XIX века. В прологе книги фигурирует также определение «руман», которое автор вводит с целью подчеркнуть условность жанра романа и стремление автора создать свои собственные правила.Главный персонаж книги – Аугусто Перес, жизнь которого описывается метафорически как туман. Главные вопросы, поднимаемые в книге – темы бессмертия и творчества.
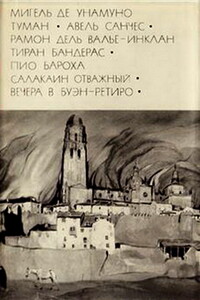
В этой книге представлены произведения крупнейших писателей Испании конца XIX — первой половины XX века: Унамуно, Валье-Инклана, Барохи. Литературная критика — испанская и зарубежная — причисляет этих писателей к одному поколению: вместе с Асорином, Бенавенте, Маэсту и некоторыми другими они получили название "поколения 98-го года".В настоящем томе воспроизводятся работы известного испанского художника Игнасио Сулоаги (1870–1945). Наблюдательный художник и реалист, И. Сулоага создал целую галерею испанских типов своей эпохи — эпохи, к которой относится действие публикуемых здесь романов.Перевод с испанского А. Грибанова, Н. Томашевского, Н. Бутыриной, B. Виноградова.Вступительная статья Г. Степанова.Примечания С. Ереминой, Т. Коробкиной.
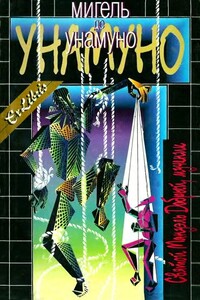
Чтобы правильно понять замысел Унамуно, нужно помнить, что роман «Мир среди войны» создавался в годы необычайной популярности в Испании творчества Льва Толстого. И Толстой, и Унамуно, стремясь отразить всю полноту жизни в описываемых ими мирах, прибегают к умножению центров действия: в обоих романах показана жизнь нескольких семейств, связанных между собой узами родства и дружбы. В «Мире среди войны» жизнь течет на фоне событий, известных читателям из истории, но сама война показана в иной перспективе: с точки зрения людей, находящихся внутри нее, людей, чье восприятие обыкновенно не берется в расчет историками и самое парадоксальное в этой перспективе то, что герои, живущие внутри войны, ее не замечают…
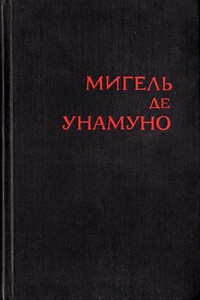
Замысел романа «Любовь и педагогика» сложился к 1900 году, о чем свидетельствует письмо Унамуно к другу юности Хименесу Илундайну: «У меня пять детей, и я жду шестого. Им я обязан, кроме многого другого, еще и тем, что они заставляют меня отложить заботы трансцендентного порядка ради жизненной прозы. Необходимость окунуться в эту прозу навела на мысль перевести трансцендентные проблемы в гротеск, спустив их в повседневную жизнь… Хочу попробовать юмористический жанр. Это будет роман между трагическим и гротескным, все персонажи будут карикатурными».Авито Карраскаль помешан на всемогуществе естественных и социальных наук.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.