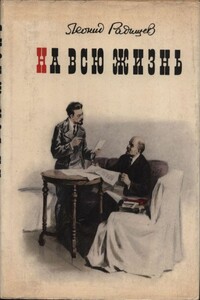Аэций, последний римлянин - [23]
Аспар, улыбаясь, пожал плечами.
— Отнюдь, о великая… Он только хочет предложить тебе свои условия…
Она не дала ему договорить, разразившись диким гневом. Это что?.. Какой-то там Аэций, жалкий прислужник раздавленного, как гнусный червь, негодяя, смеет ей, внучке, дочери и сестре императоров, предъявлять свои требования?.. И он, Аспар, смеет ей об этом докладывать?.. Несчастный!.. Он действительно заслуживает того, чтобы ему вырвали язык!.. И если ему прощают, то — пусть он знает — отнюдь не потому, что она ему чем-то обязана, а потому, что он как солдат неримлянин, воспитанный вдали от двора, не ведает — несчастный! — что делает!.. Пусть же как можно скорей скроется с ее глаз!..
Аспар покинул комнату, отвешивая низкие поклоны и не переставая улыбаться; а через минуту явились декурионы Аквилеи, дабы коленопреклоненно, со слезами на глазах умолять великую Плацидию пожалеть город, в стенах которого она пережила минуты блистательного триумфа… Не успели они убраться, устрашенные ее гневом, как явились патриций Феликс и префект Фауст. Смиренно преклонили колени, поцеловали край одежды, даже коснулись лбом пола у ее ног — но не ушли, пока не убедила, что иного выхода нет.
Вечером того же дня отправился в лагерь гуннов в качестве заложника гот Сигизвульт, но еще раньше, чем месяц взошел над Аквилеей, вернулся обратно: Аэций велел сказать, что голова Сигизвульта не стоит его жизни…
— Каких же заложников хочет Аэций? — гневно спросила она.
— Сиятельного Аспара и святейшего епископа Августина…
Казалось, Плацидия обезумеет от ярости. Как?.. Один Аспар стоит по меньшей мере двадцати таких Аэциев, а что касается епископа — разве может набожная Плацидия позволить, чтобы из-за нее хоть один волос упал с головы Христова служителя?.. Подлый Аэций хитро обеспечивает себе безнаказанность: волосок не посмеет она тронуть на его голове, лишь бы не подвергнуть опасности жизнь заложников! А с каким бы наслаждением она искупала его в кипящей смоле!..
Аспар согласился без колебаний. Епископ Августин плакал и трясся всем телом, уверенный, что уже не вернется от язычников с обезьяньими лицами, от этих уродливых демонов… Но и не сказал: «Нет…» Судьба вверенного его попечению города казалась ему важнее собственной жизни. Он только созвал виднейших представителей Аквилеи и заклинал их, чтобы избрали его преемником священника Адельфа. Потом, уже совершенно спокойный, сел в неудобную лектику, не желая ехать в одной повозке с еретиком Аспаром.
Миновали ночь и день, который Плацидия провела в молитве и посте. С сумерками она велела принести самые роскошные одежды. Потом закрылась в библиотеке с сыном и двумя самыми преданными приближенными. Темнело, но она не позволила зажечь света. В то время как молодая Спадуза надевала ей на ноги затканные золотом башмаки, а старая Элпидия, с трудом управляясь в полумраке, закалывала золотыми шпильками черные переплетения волос, Плацидия качала на коленях шестилетнего императора, мерно колыхаясь и напевая грустную готскую песенку.
В какой-то момент Спадуза заметила, что красный, закрывающий дверь занавес дрогнул, будто его коснулась с другой стороны неуверенная рука.
— Можешь войти, Леонтей, — засмеялась Плацидия.
Верный старый слуга на коленях вполз в библиотеку и, склонившись как можно ниже, поцеловал покрытый затканной золотом тончайшей кожей большой палец Плацидии. Потом замер недвижно.
— Можешь говорить, — раздался спокойный и звучный голос.
— С твоего позволения, великая… Сиятельный Аниций Ацилий Глабрион Фауст…
Префект Фауст, казалось, совсем забыл о предписанном церемониале. Быстрым шагом вошел он в библиотеку и, резко прервав Леонтея, воскликнул звучным голосом, не в силах скрыть волнение:
— Аэций ждет!
Медленным, величественным шагом — укрыв руки в широких, затканных золотом рукавах, — Плацидия прошла в триклиний, а оттуда через фауцес в атрий, где десять больших ламп бросали десять светлых кругов на мозаичный пол с изображением десяти мудрых дев с зажженными светильниками в руках. Одна из этих дев, казалось, чем-то особенно привлекала внимание Аэция, он только после некоторого усилия сумел оторвать взгляд от мозаичной фигуры, чтобы перенести его на живую деву. Взгляды их скрестились и тут же отпрянули, точно спугнутые, книзу: один — к его голым коленям, другой — к обутым в золото ступням… Оба заметили одновременно: она — что колени слишком массивные… он — что ступни маленькие… короткие… слишком короткие… и широкие… И оба одновременно подумали одно и то же: «А пригодится ли это на что-нибудь?..»
Борьба началась.
— Мы были уверены, что ты не преклонишь колен, Аэций.
Только теперь он посмотрел на нее пристально и чуть ли не с восхищением. Противник, похоже, стоит игры. Первый удар она отразила без труда и теперь сама переходит в наступление.
— Ты ожидал, что, нарушая священный церемониал, ты разгневаешь нас… поколеблешь… выведешь из спокойствия, приличествующего величию? Бедняга! Ведь мы же знаем, что ты вырос среди диких варваров… среди народа, обезьяноликий король которого ночью не отличит своего слуги от нечистой скотины… Мы помним те времена, когда посылал тебя твой отец Гауденций к этим гуннам — сам великий брат наш Гонорий Август уронил тогда слезу, скорбя о тебе и твоей судьбе… Нет… не говори ничего… Мы знаем все, что хочешь сказать!.. Ты стремился сказать, что знаешь церемониал… что ты был cura palatii

Казалось бы, уже забытые, тысячелетней давности перипетии кровопролитной борьбы германских феодалов с прибалтийскими славянами получают новую жизнь на страницах самого известного произведения крупнейшего польского романиста середины XX века. Олицетворением этой борьбы в романе становится образ доблестного польского короля Болеслава I Храброго, остановившего в начале XI столетия наступление германских войск на восток. Традиции славянской вольности столкнулись тогда с идеей «Священной Римской империи германской нации»: ее выразителем в романе выступает император Оттон III, который стремился к созданию мировой монархии…

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)
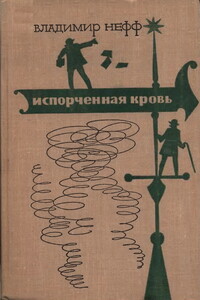
Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.