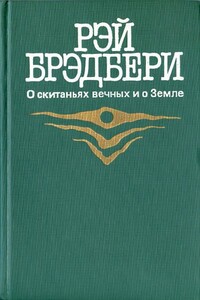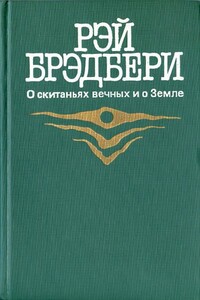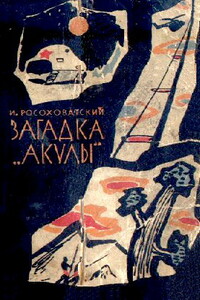— Но мы не могли всё взять и бросить. Нам нужно было идти вперед.
— Да, — сказал он. — В этом-то и была вся наша красота и наивность. Мы продолжали идти вперед, даже когда знали, что маршируем прямиком в печь. Это можно сказать наверняка: до самого последнего момента мы пиликали на скрипках, писали картины, воспроизводили, разглагольствовали и вели себя так, словно это будет длиться целую вечность. Одно время я пытался внушать себе, что часть Земли еще может уцелеть, что сохранятся какие-то осколки, Шекспир, Блейк, пара бюстов, пара фрагментов, может, один из моих рассказов и всякие останки. Я думал, мы исчезнем и оставим Землю островитянам или азиатам. Но дело приняло другой оборот. Накроет всех до единого. En toto!
— В какое время это произойдет, как ты думаешь?
— В любой момент.
— Они даже не знают, на что способна бомба?
— Шансы равны и в ту, и в другую сторону. Прости меня за пессимизм, но я склонен думать, что они перестарались.
— Может, приедешь ко мне? — спросила она.
— Зачем?
— Хотя бы поговорить…
— Зачем?
— Хоть какое-то занятие…
— Зачем?
— Будет тема для разговора.
— Зачем? Зачем? Зачем?
Она выдержала паузу.
— Билл?
Молчание.
— Билл!
Ответа не последовало.
Он вспоминал стихотворение Томаса Ловелла Беддоуса. Он вспоминал отрывок старого фильма «Гражданин Кейн». Он вспоминал белесую пуховую пелену на балеринах Дега. Он думал о мандолине Брака, о гитаре Пикассо, о часах Дали, о строке из Хаусмана. Он думал о том, как тысячи раз по утрам плескал себе в лицо холодной водой. Он думал о том, что вот уже десять тысяч лет миллиарды людей поутру плескали себе в лицо холодной водой и шли на работу. Он думал о полях пшеницы, травах и одуванчиках. Он думал о женщинах.
— Билл, ты слышишь?
Ответа нет.
Наконец, сглотнув слюну, он сказал:
— Слышу.
— Я… — сказала она.
— Да?
— Я хочу… — сказала она.
Земля взорвалась и бесперебойно горела тысячу миллионов веков…
1950–1951