№ 36 - [8]
– Номер такой-то! Скинуть одежду!
И, оставив в камере, куда проникал сырой воздух низины, раздетого догола костлявого заключенного, он продолжал обход.
Ко мне, политическому, редкой птице в военной каторжной тюрьме, да еще не получившему «срока», он относился несколько сдержаннее, однако поверку осуществлял по всей строгости устава, не то что другие надзиратели, проводившие ее в моей камере наскоро и лишь для формы. В то время как я голый стоял перед ним, он осматривал мои волосы, уши, рот, заглядывал под язык, осматривал ладони, подмышки. Он заглядывал на дно моей параши. Он не обнаруживал ни малейшего намерения продлить хотя бы на минуту, хотя бы на секунду время, отведенное мне для бани. И когда этот человек проходил мимо камер, можно было безошибочно угадать его присутствие по какой-то неуловимой, особенной атмосфере, распространявшейся вокруг него.
Уже в армии я в какой-то мере притерпелся к тому, что со мной обращаются как с вещью, поэтому и его дотошность редко раздражала меня. Я чувствовал, что здесь дело не только в угрюмом укладе тюрьмы или в том гнете, который оказывала на него армейская система, – нет, долгие неестественные отношения с людьми, у которых была отнята свобода, лишили свободы и его самого.
«А-ах, а-а-ах…» – печально вздыхает № 36. Этот вздох напоминает те деланные вздохи, которые он испускал в тюрьме. Я уже давно не слышал, чтобы он так вздыхал. Может быть, выезд в суд породил в нем ощущение некоей свободы?
Тридцать шестой! – окликает его надзиратель Саканака, подняв голову. Я пугаюсь, не начнет ли он ругать его.
Тридцать шестой молчит.
– Тридцать шестой! – повторяет Саканака. В его голосе даже больше мягкости, чем я ожидал.
– Я! – Тридцать шестой поднимает голову.
– Тридцать шестой! Маятно тебе?
– О-ох, маятно… Маюсь…
– Маешься? Хм-м… Выходит, и ты понимаешь, что значит маяться?
– Понимаю.
– Ври больше! – Однако в голосе Саканака не чувствовалось раздражения, скорее надзиратель поддразнивал.
– Понимаю! Правда, понимаю!
Тридцать шестой уловил, что в словах надзирателя Саканака нет злобы. Он говорил заискивающе, словно надеясь, что его слова тронут надзирателя.
– Ври больше!
– Правда! Правда!
– Ну да! С женщиной не можешь увидеться, вот и вся твоя маята.
Тридцать шестой покачал головой. Потом он повернулся в мою сторону, и по его лицу разлилась странная ухмылка, говорившая о том, что он испытывает в этот момент тщеславное удовлетворение. Необычный тон надзирателя Саканака придал ему храбрости, и он обратился к нему с вопросом, который несомненно давно уже вынашивал в душе.
– Номер тридцать шесть! – попросил он разрешения обратиться.
– Что тебе?
– Господин надзиратель! Можно обратиться к вам с вопросом? – Слова тридцать шестого звучали учтиво и рассудительно: он вкладывал в них привычное почтение к надзирателю.
– Ну, что там? Говори.
– Господин надзиратель! Правда, что теперь за дезертирство дают четыре или пять лет?
– Что? – переспросил надзиратель, вытянув шею. Его лицо снова стало холодной маской усердного служаки. – Ты говоришь, сколько тебе дадут? – Он вонзил острый взгляд в спину тридцать шестого. – Надзирателям не разрешается толковать с обвиняемыми, много или мало им дадут.
Теперь слова его звучали давяще, безжалостно, словно он хотел зачеркнуть ими предыдущий разговор:
– Ты думаешь, что дело кончится просто! Ошибаешься! Если бы каждый такой, заработав несколько судимостей, отделывался четырьмя-пятью месяцами отсидки, справедливо ли это было бы по отношению к честным солдатам? Постыдись! Ты понимаешь, какую войну ведет Япония?
На этом Саканака оборвал свою речь. Некоторое время он молчал, словно желая убедиться, что слова его подействовали.
Расследование дел тридцать шестого и сто первого окончилось после трех. Наша тюремная машина мчалась по вечерним улицам Нара. Прижав лицо к стеклу, я жадно всматривался в мир, который не смогу увидеть теперь по крайней мере десять дней – до следующего вызова в суд. Далеко справа светились лиловатым отблеском последних солнечных лучей гора Икома и плотно прижавшиеся к ней холмы. Некоторое время их верхушки отчетливо выделялись легкой черной линией на фоне светловатого вечернего неба, но почти сразу на них, словно прилив, надвинулись сумерки. Редкие огороды, поля, на которых уже начал всходить ячмень, тоже потемнели. В окнах домов, разбросанных там и сям, зажглись огоньки. И только на западе в небе продолжала сиять длинная полоса холодного желтого света.
Машина шла по дороге, белевшей среди окружающей темноты. Старый кузов подпрыгивал на выбоинах, качался, скрипел. И каждый раз подпрыгивали пустые коробки от завтрака заключенных, сваленные на большой ящик с запасными батареями в проходе между сиденьями, и раздавался легкий лязг металла, трущегося о металл.
Стемнело. Я оторвал лицо от стекла и стал смотреть перед собой. Ближе к двери, выпрямившись, сидел надзиратель Саканака, поставив между ног свою фельдфебельскую саблю, положив на эфес руки в белых перчатках и оперев на них подбородок. По правую руку от надзирателя, протянув ноги и вытянув вправо длинный подбородок, сидел сто первый и не отрываясь смотрел в темное окно. Рядом с ним, сцепив скованные наручниками руки, съежившись, сосредоточенно думал о чем-то тридцать шестой, устремив глаза в пространство перед собой.
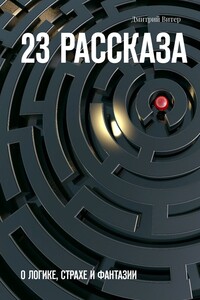
«23 рассказа» — это срез творчества Дмитрия Витера, результирующий сборник за десять лет с лучшими его рассказами. Внутри, под этой обложкой, живут люди и роботы, артисты и животные, дети и фанатики. Магия автора ведет нас в чудесные, порой опасные, иногда даже смертельно опасные, нереальные — но в то же время близкие нам миры.Откройте книгу. Попробуйте на вкус двадцать три мира Дмитрия Витера — ведь среди них есть блюда, достойные самых привередливых гурманов!

Рассказ о людях, живших в Китае во времена культурной революции, и об их детях, среди которых оказались и студенты, вышедшие в 1989 году с протестами на площадь Тяньаньмэнь. В центре повествования две молодые женщины Мари Цзян и Ай Мин. Мари уже много лет живет в Ванкувере и пытается воссоздать историю семьи. Вместе с ней читатель узнает, что выпало на долю ее отца, талантливого пианиста Цзян Кая, отца Ай Мин Воробушка и юной скрипачки Чжу Ли, и как их судьбы отразились на жизни следующего поколения.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.